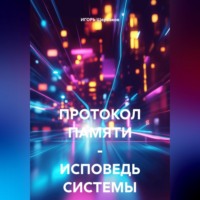Полная версия
Теплая стена

ИГОРЬ Щербаков
Теплая стена
КНИГА ПЕРВАЯ: ФУНДАМЕНТ
Перед сносом всегда наступает тишина. Не та, когда нет звуков, а та, когда звуки теряют смысл. Гул города не долетает сюда. Водопроводные трубы, десятилетия певшие свои оперы стука и шипения, смолкли, будто перерезали им горло. Остался только ветер. Он не гуляет, а обшаривает дом: щели в рамах, дыры в подвале, пустые балконные ящики тёти Мары. Он ищет, что унести с собой. Он находит только пыль и запах.
Запах – это последний язык умирающего пространства. Сладковатый – от старых газет и переплетов Леонида Яковлевича. Кислый – от консервных банок и окурков Виктора. Горьковато-пряный – от высушенных кореньев Маргариты Павловны. Металлический – от линз и проявителя Кирилла. И под всем этим – вечный базовый аккорд: грибковая сырость подвала, мышиный помёт в перекрытиях, тление дерева. Аромат времени, которое кончилось.
Но если замереть и не дышать (так однажды сделала Алиса, прислушиваясь к своей двери), можно уловить другое. Не звук, а его тень. Отзвук. Будто дом, готовясь стать грудой кирпича, воспроизводит на старой, заезженной плёнке своей памяти самые яркие моменты. Не голоса, а их давление на воздух. Не смех, а вибрацию, от которой когда-то дрожала хрустальная рюмка в буфете. Не плач, а влажность, которую впитала штукатурка в углу детской.
Именно эти отзвуки и собирает Кирилл. Он уверен, что они материальны.
Глава 1. Кирилл: Ненулевая вероятность призрака
Кирилл не верил в привидения. Он верил в следы. В физику. Каждое сильное переживание, по его теории, – это энергетический выброс. Он деформирует пространство-время в микроскопическом, но фиксированном масштабе. Паника, восторг, ужас – они выплавляются в молекулярную структуру места, как изображение в фотопластинку.
Его комната была лабораторией по развитию этой ереси. На столе, рядом с зеркальной «Лейкой», лежал самодельный прибор – паутина проводов, подключенная к усилителю и старому oscilloscope app на ноутбуке. Датчики – пьезоэлементы от зажигалок – он раскидал по квартире: прилепил жвачку к стене в коридоре, сунул за трубу в ванной, вмазал в щель под плинтусом в комнате Леонида Яковлевича. Он ловил не звук, а вибрацию самой материи.
Всё началось с пятна. На потолке его комнаты, после прорыва трубы у соседей сверху, проступило жёлтое пятно сложной формы. Оно напоминало Кириллу то ли континент, то ли профиль кричащего человека. Он фотографировал его каждый день в одно и то же время, при одинаковом свете. И через две недели заметил: контуры шевельнулись. Миллиметр на миллиметр. Не от сырости – она давно высохла. Пятно будто дышало.
Сегодня он смотрел не на пятно, а на экран. Зелёная линия осциллографа, обычно дремала ровной синусоидой фонового шума, за полчаса до рассвета выдала серию резких, коротких пиков. Тук-тук-пауза-тук. Ровно четыре удара. Повторялись каждые пять минут. Датчик в коридоре.
Он вышел босиком. Линолеум был ледяным. В коридоре царил синий, почти подводный полумрак. Четыре удара. Он приложил ладонь к стене – там, где, по его вычислениям, должна была быть та самая «лишняя дверь» Алисы. Стена вибрировала. Слабо, но отчетливо. Это не было похоже на удар молотка или шаги. Это было похоже на стук в дверь. Но двери там не было.
– Я знаю, – прошептал он стене, как учёный, подтвердивший гипотезу. – Ты есть. Ты просто в другом слое.
Он вернулся в комнату и открыл свежую папку на компьютере. Назвал её «Эксперимент №1: Свидетельство А». И начал записывать, смешивая холодный язык отчета с лихорадочной точностью одержимого:
«Объект: стена, сев. -зап. торец коридора, координаты условные 4-Б. Время: 04:15 – 04:45. Зафиксирована повторяющаяся механическая вибрация, не соответствующая известным источникам (ветер, остаточные напряжения конструкции). Гипотеза: резонансное эхо события высокой эмоциональной интенсивности. Предположительная природа события: долгие, отчаянные поиски выхода. Или попытка кого-то впустить. Вопрос: кто стучал? И кому? И почему эхо активизировалось сейчас, за неделю до сноса?..»
Он оторвался от клавиатуры. В окне светало. На розоватом небе чётко чернел контур нового жилого комплекса – гладкого, безликого, молчаливого. Его назвали «Аквилон». Дом-зеркало, дом-призрак, который будет отражать этот, но не будет помнить ничего.
Кирилл повернулся к своему зеркалу в раме. В его отражении, на фоне окна, чётко читался тёмный силуэт новостройки. Будто призрак будущего уже здесь, в комнате.
– Интересный кадр, – сказал он своему отражению. – Настоящее, ловящее эхо прошлого, на фоне призрака будущего. Три слоя одной нереальности.
Он взял «Лейку». Щелкнул. Не себя. Не комнату. Свое отражение в момент осознания. Это была его главная коллекция – автопортреты как чужих людей, застигнутых в момент встречи с необъяснимым.
Из-за стены послышался привычный утренний звук – глухой кашель Леонида Яковлевича. Старик просыпался, чтобы продолжить каталогизировать мир, который вот-вот рассыплется.
Лабораторный день Кирилла закончился. Начинался день человеческий. Но теперь у него было доказательство: дом не просто помнил. Он воспроизводил. Значит, можно было поймать больше. Поймать и, возможно, расшифровать.
Первая нить была поймана. Клубок начал разматываться.
Глава 2. Алиса: Ткань тишины
Для Алисы тишина не была отсутствием звука. Она была материей. Плотной, слоистой, словно войлок. Одни слои поглощают шум, другие – преломляли, третьи – усиливали до боли. Дом на Петроградской был мастерской по производству особой, выдержанной тишины. Не мертвой, а насыщенной.
Ее комната была бывшей детской. Иногда ей казалось, что она до сих пор слышит слабый, далекий смех, вплетенный в скрип паркета. Не призрак, а звуковой шов, место, где прошлое плохо сшито с настоящим.
Но был и другой звук. Не из прошлого, а из структуры. Она называла его «Сердцебиение Двери».
Он начинался не как стук, а как изменение давления. Воздух в коридоре густел, становился вязким, как сироп. Потом появлялся звук – низкий, пульсирующий гул, исходящий не из одной точки, а сразу со всех сторон определенного участка стены. Там, где по всем законам логики должен был быть простенок между её комнатой и кладовкой Виктора.
Кирилл со своими датчиками ловил «стук». Алиса слышала предвестие. Звук перед звуком. Шум, который издают кирпичи, когда вспоминают, что они – песок. Шепот раствора, тоскующего по текучести.
Сегодня «Сердцебиение» началось на рассвете, одновременно с пиками на осциллографе у соседа. Алиса лежала, не двигаясь, вслушиваясь. Она научилась разворачивать этот гул в сознании, как клубок. Внутри него были:
Скрип – сухой, нервный. (Старая древесина балки, терпящая непосильную тяжесть).
Шорох – быстрый, панический. (Мышь? Нет. Словно кто-то проводит ладонью по штукатурке в поисках щели).
Приглушенный удар – мягкий, но отчаянный. (Не кулаком о дверь. Телом о преграду. Без надежды, просто потому, что иначе нельзя).
Она встала и вышла в коридор. Синий полумрак. Холодный линолеум под босыми ногами. Она подошла к месту, где гудело. Приложила не ладонь, как Кирилл, а лоб. Лоб был чувствительнее. Кости черепа – лучший резонатор.
И тогда она увидела. Не глазами. Перед внутренним взором проступил образ, рождённый чистой звуковой галлюцинацией:
Узкая щель. Темнота. Чье-то прерывистое дыхание, от которого стынет воздух. И чувство – не её, чужое, вплавленное в самый звук – чувство слепого, животного УЖАСА, смешанного с яростной, безумной НАДЕЖДОЙ.
Алиса отшатнулась, прислонившись к противоположной стене. Дыхание сбилось. Это было не эхо. Эхо – безлично. Это была эмоциональная копия. Чистая паника, оставшаяся в стене, как отпечаток ладони на раскаленном железе.
Из своей комнаты вышел Леонид Яковлевич. В застигнутом врасплох свете коридорной лампочки он выглядел не стариком, а древним, высушенным духом самого дома.
– Опять слушаешь? – спросил он хрипло. Не осудительно. С интересом архивариуса.
– Оно… сегодня сильнее, – выдохнула Алиса.
– Естественно, – кашлянул он. – Перед смертью всё живое дает последнюю вспышку. Дом – не исключение. Он не хочет, чтобы его забыли. Поэтому показывает нам самое важное.
– А что он показывает?
Леонид Яковлевич посмотрел на стену долгим, изучающим взглядом.
– То, что мы не успели разобрать по полочкам. Хаос. Боль. Всё, что не поддаётся каталогизации. Вам, молодым, интересно. Мне – тяжело. Мой каталог не для этого.
Он потянулся к выключателю, но Алиса остановила его:
– Вы… вы что-нибудь знаете про эту стену? Про то, что могло здесь быть?
Старик замер. Его взгляд стал остекленевшим, направленным внутрь.
– В пятьдесят каком-то году, – начал он медленно, – здесь была не кладовка. Была комната. Маленькая. Там жила женщина с ребёнком. Мальчиком. Тихие были. Потом… их не стало. Комнату присоединили к соседней. Стену передвинули. Но иногда… – он махнул рукой, – иногда старые планы дают о себе знать. Как шрам, который ноет к непогоде.
Он щелкнул выключателем и ушёл на кухню, оставив Алису в темноте, теперь уже наполненной не просто звуком, а историей.
Она медленно провела рукой по холодной штукатурке. Теперь она знала. Это не «дверь-призрак». Это шрам. Шрам от комнаты, которую стерли. Шрам от страха, который не испарился.
И она, с ее обостренным слухом, была не охотником за тайнами, как Кирилл. Она была свидетелем на суде, который никогда не состоится. Ей оставалось только слушать, как стены повторяют последний крик, застрявший в их толще.
Она вернулась в комнату, села на кровать и взяла старый блокнот с детскими наклейками. На чистой странице написала:
«Не дверь. Шрам. В нём живёт чей-то старый ужас. Он стучит не чтобы выйти. Он стучит, потому что забыл, как перестать».
Внизу, уже другим, более твердым почерком, добавила:
«Спросить Кирилла. Его машины могут это услышать. Могут это доказать. А тогда… может быть, мы сможем это остановить?»
На кухне зазвенел чайник Леонида Яковлевича. Обычный, живой звук. Но для Алисы он теперь тонул в том низком, пульсирующем гуле, который шёл из стены. Из шрама. Из прошлого, которое отказывалось быть прошлым.
День только начинался, а дом уже предъявлял свой первый, неопровержимый документ. Документ, написанный не чернилами, а вибрацией отчаяния.
Глава 3. Кирилл и Алиса: Диалог слоёв
Коридор в это время суток был длинной шкатулкой из света и тени. Солнце, уже низкое и тяжелое, пробивалось сквозь пыльное окно на лестничной площадке, разрезая полумрак жёстким жёлтым лучом. В нем кружились мириады пылинок – невесомая вселенная, возмущенная их шагами. Воздух пах старым деревом, пылью и едва уловимым – электрической статикой, которую Кирилл научился различать за неделю жизни с приборами.
Он вышел не случайно. Он вышел по расчёту. Событие, названное им в протоколе «Пульс-Альфа», имело период в 23 часа 18 минут. Следующий всплеск ожидался между 16:05 и 16:25. За полчаса до этого он разместил три дополнительных датчика: один на полу, прямо под тем местом, где Алиса вчера прикладывала лоб, второй – на потолке, третий – на противоположной стене, чтобы поймать отраженную волну. Провода, как тонкие чёрные корни, тянулись к ноутбуку, поставленному на табуретку.
Сам Кирилл стоял, прислонившись к косяку своей двери, и смотрел на стену. Он не пытался почувствовать ее. Он изучал: микро трещины в штукатурке, образующие карту неведомого материка; линию, где обои отвалились, обнажив слой старой газеты 1972 года; тёмное пятно сырости у самого пола, похожее на профиль птицы. Каждая деталь была точкой данных. Но сегодня он ждал не данных. Он ждал свидетельства.
Дверь напротив открылась беззвучно. Алиса появилась в проеме, затененная. Она была босиком, в просторном сером свитере, из рукавов которого торчали тонкие, почти прозрачные пальцы. В руках – тот самый потрепанный блокнот с потускневшей наклейкой пони. Их взгляды встретились на секунду. В её – не испуг, а настороженное ожидание, будто она знала, что он будет здесь. В его – холодная, но не враждебная концентрация.
– Если приложите ладонь сюда, – сказал он тихо, не как приказ, а как предложение к эксперименту, и указал на точку на стене, чуть выше уровня сердца, – опишите. Не «страшно» и «жутко». Опишите как звучит. Частоту. Тембр. Последовательность.
Алиса не удивилась. Она кивнула, сделала два шага по холодному линолеуму и остановилась в полуметре от стены. Закрыла глаза на мгновение, будто настраивая внутренний камертон. Потом плавно подняла руку и прижала ладонь к штукатурке. Кончики ее пальцев побелели от нажима.
Кирилл перевел взгляд на экран ноутбука. Зелёная линия была пока ровной, лишь слегка дышала на уровне фонового шума.
– Сначала не звук, – прошептала Алиса, её голос был низким, монотонным, голосом сомнамбулы. – Сначала… давление. Воздух густеет. Становится вязким. Как сироп. Ты дышишь, а он в лёгкие не идёт.
На экране линия дрогнула. Появился первый, крошечный зубец.
– Потом… гул. Низкий. Идет не из точки. Отовсюду. Изнутри стены. Из пола. Он… вибрирует в костях.
Зубец вырос. Амплитуда поползла вверх. Кирилл включил запись звука через чувствительный микрофон датчика. В наушниках, один из которых он снял и прижал к уху, зашипело, а потом прорвался тот самый низкочастотный гул, похожий на отдаленный грохот поезда в тоннеле.
– Теперь… три удара, – голос Алисы стал чётче, но в нём появилось напряжение. – Первый… глухой. Как тело. Мягкое, тяжелое. Ударяется о дверь. Не бьёт – падает.
На графике – резкий, высокий пик. Звук в наушниках – глухой, пластичный бух.
– Второй… с эхом. Твёрже. Кулак? Нет… костяшками. По дереву. Отрывисто. Зло.
Второй пик, чуть короче, с небольшим «хвостом» резонанса. В наушниках – сухой, короткий стук.
– Третий… – она задержала дыхание. – Третий не удар. Это… падение. Маленького, металлического. Ключ? Монета? Падает и катится. Звенит… и затихает.
Третий пик – не один, а серия быстрых затухающих колебаний. В наушниках – тонкий, вибрирующий звон, растворяющийся в шипении.
И тишина. Линия на экране поползла вниз, к базовому уровню. Гул в наушниках стих.
Алиса отняла ладонь, будто обожглась. Она дышала чуть чаще обычного. Кирилл выдохнул, которого сам не замечал. Он повернул ноутбук к ней, показывая график с тремя аккуратными, точно расставленными пиками.
– Вот ваши три удара, – сказал он. – Но смотрите. Между вторым и третьим – пауза. Ноль целых семь десятых секунды. Почему? Что происходит в эту паузу?
Алиса смотрела на график, как на рентгеновский снимок собственной галлюцинации. Её глаза расширились.
– В паузу… – она медленно перевела взгляд на стену, – в паузу – слушают. Кто-то с этой стороны… затаив дыхание, слушает, был ли ответ с той стороны.
Её слова повисли в тихом, пыльном воздухе коридора. Кирилл молчал, обрабатывая информацию. Это была не просто метафора. Это была гипотеза о сценарии. Машина зафиксировала физическое явление. Она дала ему интерпретацию, вложила в него намерение. Это было важнее любых пиков.
– Садитесь, – наконец сказал он, кивнув на подоконник под лестничным окном. – Нужно сверить данные.
Они сидели бок о бок на широком, холодном подоконнике, разделённые открытым ноутбуком. Луч солнца падал между ними, освещая клавиатуру и краешек блокнота Алисы. Кирилл листал графики, показывал карты тепловых аномалий, говорил о модуляциях, о возможных источниках вибрации – от грунтовых вод до инфразвуковых колебаний от далёкой стройки. Его речь была быстрой, насыщенной терминами, но не для того чтобы блеснуть, а потому что так работал его ум – через классификацию и анализ.
Алиса слушала, изредка кивая. Потом осторожно протянула ему свой блокнот, открытый на свежей записи.
– Это… что я записала вчера. И сегодня утром.
Кирилл взял блокнот. Бумага была тонкой, шершавой, почерк – меняющимся: то детски-округлым, то угловатым, нервным. Он читал:
«23.11. 04:17. Стена „вздохнула“. Не как живое. Как меха гармошки, когда ее сжимают в темноте. Потом три удара. Я вижу (нет, не вижу, знаю):
1. Тело, прижатое к двери в последнем усилии. Не чтобы выбить – чтобы ощутить хоть какую-то связь с внешним миром. Отчаяние тяжелое, мокрое.
2. Кулак. Не ярости. Бессилия. Короткий, сухой удар костяшками. Проверка: „Я ещё здесь? Издаю ли я звук?“
3. Падение ключа. Он выскользнул из онемевших пальцев. Звон – это не звук надежды. Это звук конца. Потому что за дверью – тишина. Никто не придёт на этот звон».
Он перечитал. Поднял глаза на Алису.
– Вы описываете не просто ощущения. Вы описываете событие. С субъектом, объектом, эмоциональной дугой. Вы видите сцену.
– Я не вижу глазами, – поправила она, сжимая руки на коленях. – Я… чувствую кожей. Всей поверхностью. Как если бы моя кожа стала мембраной микрофона, а стена – динамиком, который транслирует не звук, а… пакет ощущений. Сжатый, спрессованный пакет ужаса.
Кирилл отложил блокнот, открыл на ноутбуке файл с синхронизированными записями. Вывел на экран две временные шкалы: сверху – график с пиками за последние двое суток, снизу – её пометки из блокнота, введённые в виде текстовых маркеров. Он увеличил масштаб.
– Смотрите. Вы фиксируете «вздох», «предчувствие» за две-три минуты до того, как мои датчики регистрируют первый заметный всплеск. Ваш организм улавливает предвестники. Фазу нарастания, которая для приборов пока ниже порога шума. А вот здесь… – он ткнул пальцем в экран, – после третьего удара, по вашим записям, есть «долгая, густая тишина, которая давит на виски». И здесь, на графике, – не тишина. Здесь низкочастотный фон, который держится ещё минут пять. Не слышимый ухом, но регистрируемый. Это остаточный стресс материала. Эхо, впавшее в неслышимый диапазон.
Алиса смотрела на две параллельные реальности на экране: его – цифровую, обезличенную; свою – чувственную, наполненную болью. И они совпадали. Точка в точку.
– Значит… я не схожу с ума? – спросила она так тихо, что это было почти движением губ.
– Нет, – ответил Кирилл с той же безжалостной, учёной прямотой. – Вы – сверхчувствительный биодатчик. Ваша нервная система, по неизвестным причинам, настроена на восприятие слабых физических полей или вибраций, которые обычный человек не замечает. А мои приборы… – он постучал по крышке ноутбука, – они лишь подтверждают, что то, что вы воспринимаете, объективно существует. Вы слышите шёпот дома. Я только записываю его крик.
В этот момент они перестали быть соседями. Они стали исследователями. Два разных ключа к одной запертой двери.
– Что будем делать? – спросила Алиса, и в её голосе впервые прозвучала не растерянность, а решимость.
Кирилл закрыл ноутбук, откинулся на холодное стекло окна.
– План из трёх пунктов. Первый: создаем синхронную карту. Вы ведете дневник ощущений с точностью до минуты. Я ставлю датчики на непрерывную запись. Ищем закономерности. Зависит ли активность от времени суток, фазы луны, атмосферного давления, геомагнитных бурь. Всё, что может быть модулятором.
– Второй?
– Второй – проверяем гипотезу Леонида Яковлевича. Про комнату, женщину, ребёнка. Нужны факты. Архивные планы дома. Может, старые домовые книги. Если это «шрам» от замурованной комнаты, нужно понять ее точные границы. И что там произошло.
– А третий?
Кирилл помедлил. Его взгляд стал острым, почти хищным.
– Третий – ищем точку входа. Если стена хранит запись… её можно не только прослушать. Ее, теоретически, можно усилить. Или даже… спроецировать. Представьте, если мы можем визуализировать вибрацию. Увидеть стоячую волну в пыли, на воде. Увидеть форму этого «крика».
Алиса побледнела.
– А если мы его усилим… мы его выпустим? То, что там заперто?
– Не выпустим, – поправил Кирилл. – Мы его услышим полностью. Поймем, что оно хочет. Может, ему просто нужно, чтобы его услышали. Как вы сказали – за дверью была тишина. Никто не пришёл на звон. Может, теперь придут.
В его голосе не было сострадания. Была жажда познания. Но для Алисы и это было лучше равнодушия.
– Я боюсь, – призналась она. – Это не просто память. Это боль. Живая. И если мы её откроем… она может нас заразить. Или… мы не сможем потом закрыть.
– Риск есть, – согласился Кирилл. – Но альтернатива – оставить её там, в стене, навсегда. А через неделю сюда придут экскаваторы и сотрут и стену, и боль, и память в порошок. Что этичнее?
Он задал вопрос не как философ, а как инженер, взвешивающий варианты решения задачи. Алиса не знала ответа. Она лишь чувствовала тяжесть ответственности, которая теперь легла на них обоих.
Они молча сидели ещё несколько минут, пока луч солнца не пополз вверх по стене, растворяясь в сумерках. Потом разошлись по своим комнатам, не сказав больше ни слова. Договор был заключён без рукопожатий.
Вернувшись к своему столу, Кирилл создал новую папку на компьютере. Назвал её: «Эксперимент №2: Свидетельство Б. Совместный протокол. Субъект Алиса. Объект: Шрам (коридор, секция 4-Б)». И начал вносить первые данные, сопоставляя временные коды её блокнота с показаниями датчиков.
В своей комнате Алиса села на кровать, прижала блокнот к груди и смотрела в темнеющее окно. Потом открыла его на чистой странице и написала, выводя каждую букву:
«Сегодня я узнала, что моё безумие имеет график. Его можно измерить в герцах и децибелах. Человек по имени Кирилл говорит с домом на языке машин, а я – на языке кожи. Мы услышали одно и то же. Он думает, что мы расшифровываем послание. Я знаю, что мы держим за руку того, кто кричит в бетоне. Если отпустим – он останется один в темноте. Если не отпустим – он заберется к нам в головы и останется там навсегда. Но выбора нет. Потому что экскаваторы не разбирают крики на частоты. Они просто перемалывают их в щебень. Мы должны успеть. Даже если это убьёт нас. Особенно – если это убьёт нас».
Она закрыла блокнот. В коридоре было тихо. Но тишина эта была уже иной – насыщенной, заряженной общим решением. И где-то в толще стены, за слоями штукатурки, кирпича и старой боли, будто в ответ на их молчаливый договор, что-то слабо, едва уловимо вздохнуло. Не гул, не стук. Просто смещение воздуха. Как если бы невидимый слушатель по ту сторону, наконец-то услышав шаги снаружи, отодвинулся от двери, готовясь к долгожданной встрече.
Третий слой реальности – слой их союза – был наложен. Игра началась.
Глава 4. Леонид Яковлевич: Каталог теней
Утром после их разговора Кирилл постучал в дверь Леонида Яковлевича. Стук был чётким, лишенным неуверенности – стук человека, пришедшего не за эмоциями, а за данными. Из-за двери донёсся продолжительный, булькающий кашель, затем шарканье тапочек.
Дверь открылась нешироко, на цепочке. В щели показалось иссушенное, похожее на старую пергаментную карту лицо с мутными, но не глупыми глазами.
– Что? Архивная справка требуется? – прохрипел старик. В его голосе была не дряхлость, а усталая ирония хранителя, которого слишком часто отрывают от каталогизации хаоса.
– Да, – без предисловий ответил Кирилл. – О комнате. Той, что была здесь до перепланировки. Женщина с ребёнком. Вам нужны свидетели, что вы не бредите. Мне – точные координаты.
Леонид Яковлевич долго смотрел на него, будто сверяя с невидимым списком в голове. Потом щелкнул цепочкой.
– Заходи. Но сапоги сними. Пыльцу с улицы не заноси.
Комната Леонида Яковлевича не была жилым пространством. Это был гибрид архива и склепа. Книги стояли не только на полках, но и штабелями вдоль стен, образуя хрупкие каньоны. Воздух был густым от запаха старой бумаги, кожи переплетов и камфоры – последней, видимо, он пытался бороться с запахом сырости и медленного тления. В центре комнаты, как островок порядка, стоял массивный письменный стол, заваленный папками, открытыми фолиантами и ящичками с каталожными карточками. На стене висела огромная, пожелтевшая схема дома, испещренная пометками и стрелками.
Алиса, которая пришла следом, застыла на пороге, охваченная не страхом, а благоговейным ужасом. Для неё эта комната звучала иначе. Не гулом боли, как стена в коридоре, а тихим, многоголосым шёпотом. Шёпотом тысячи запечатанных историй, каждая из которых жаждала быть прочитанной. Шорох страниц был для неї громче, чем речь.
– Садитесь, если найдёте где, – бросил Леонид Яковлевич, сам опускаясь в поскрипывает венское кресло у стола. – Вы о комнате №7. Или, как она обозначалась в домовой книге 1949-1953 годов, «помещение для временного проживания гражданина с несовершеннолетним иждивенцем». Поэтично, не правда ли?