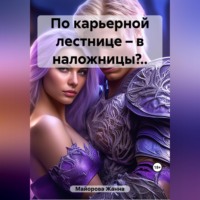Полная версия
Пряное Рождество Гермионы Грейнджер

Пряное Рождество Гермионы Грейнджер
Пролог: Пыль старых фолиантов
Воздух в библиотеке мадам Пинс имел свой вес, вкус и возраст. Густой, как сироп, и тихий до звона в ушах. Главным его компонентом была пыль – не простая, унылая пыль магловских чердаков, а благородная, вековая. Та, что ложится на пергаменты, кожу переплётов, вобравшая в себя эхо миллионов произнесённых вслух заклинаний, шепотков заговорщиков и вздохов отчаяния перед экзаменами.
Гермиона Грейнджер вдыхала этот запах, как успокоительное. Он был осязаемым, реальным. Привязывал её к «здесь и сейчас» прочнее любого заклинания. Пальцы, обхватившие древний том «Основы трансфигурации высшего уровня», чувствовали шершавость страниц, чуть липкую прохладу пергамента. Девушка намеренно сосредотачивалась на этих ощущениях: вот заусенец на большом пальце цепляется за край листа, вот слабый аромат воска от свечи на соседнем столе смешивается с книжным – горьковатым и сладковатым, одновременно.
Сегодня в знакомую симфонию запахов вплетался чужой аккорд. Витал в трёх столах от неё, и Гермиона, против своей воли, ловила его обрывки. Запах дорогого мыла с нотками колючего кедра и холодного морского бриза, лёгкий флёр дорогого пергамента (не этого, библиотечного, а нового, пахнущего деньгами и аристократической скукой) и что-то ещё… что-то металлическое и напряжённое, будто запах статического электричества перед грозой.
Драко Малфой.
Тело, наученное войной, реагировало на эту близость раньше сознания. Мышцы между лопатками незаметно напряглись, будто ожидая удара в спину. Дыхание, ровное и глубокое над книгой, стало чуть более поверхностным, контролируемым. Девушка не поворачивала головы, но периферийное зрение работало, нервы натянуты, как струна, улавливая малейшее движение: скупой поворот запястья, поправляющего манжет, дрожь тёмной тени ресниц на бледной коже.
И в этом невольном, животном внимании была не только насторожённость. Было жгучее, стыдное любопытство.
Как он выглядит теперь, без маски высокомерия?
Что скрывает это ледяное спокойствие?
Гермиона помнила его в зале суда: хрупкого, раздавленного, с глазами цвета зимнего неба, в которых читался немой вопрос. Ей было легче думать о том Малфое – жалком и побеждённом. Тот не представлял угрозы. Не заставлял кожу покрываться мурашками от простого осознания, что он здесь, в одной комнате, дышит тем же пыльным воздухом.
Если отвлечься – вернётся другое.
Вкус пепла на языке.
Ледяной холод мраморного пола в поместье Малфоев, впивающийся в щеку.
Или – ещё хуже – полная тишина, из которой внезапно рвётся ледяной, женский голос: «Грязнокровка».
Гермиона непроизвольно потеребила рукав свитера, под которым, на внутренней стороне предплечья, змеился росчерками тонкий, изуродовавший руку, шрам. Боль прошла, осталась память, вплавленная в кожу и в сознание. И его присутствие – наследника того мира, что оставил на ней этот шрам – было живым, дышащим напоминанием. От этого в груди сжималось что-то тяжёлое и колючее, как комок заледеневшей земли.
Грязнокровка.
Она моргнула, глотая комок в горле, и сильнее вжалась в жёсткий деревянный стул.
Книга. Нужно читать. Седьмой год, пропущенный из-за войны, сам себя не наверстает. Девушка заставила глаза скользить по строчкам, но буквы расплывались, превращаясь в причудливые узоры. Весь её мир сузился до острых ощущений: шершавость бумаги под подушечками пальцев, горьковатый вкус книжной пыли на задней стенке горла, напряжённая тишина, звенящая между их столами, и этот посторонний, чистый и холодный запах, который казался единственным живым пятном в царстве древностей.
Драко Малфой сидел через три стола от неё. Особенно бледный в лунном свете, падающем из высокого стрельчатого окна.
Он не читал. Смотрел на сгусток темноты за стеклом, где угадывались очертания Запретного леса.
Воздух здесь пах для него иначе. Да, всё та же пыль и чернила, но поверх них – призрачный шлейф яблочного мыла, зелёного чая и чего-то неуловимо-пряного, что он давно научился ассоциировать с ней.
С Грейнджер.
Драко не поворачивал головы, но видел её краем глаза: сгорбленную над книгой, слишком напряжённую, будто ожидающую удара сзади. Её спина, повёрнутая к нему, ощущалась то ли как щит, то ли как мишень.
В этом молчаливом соседстве не было ни угрозы, ни дружбы. Что-то новое и хрупкое. Признание. Того, что они пережили один ад. Что их раны, хоть и нанесённые с разных сторон, болят одинаково остро. Что оба они сейчас – просто двое восьмикурсников, пытающихся найти опору в руинах.
Ощущения Драко были набором острых, неприятных контрастов. Тёплая тяжесть шерстяных мантий («Носить форму, Драко, всегда. Мы должны демонстрировать лояльность») и внутренний холод, который не могли прогнать ни камин, ни горячий чай. Шершавость подушечек пальцев, обожжённых в первые недели после войны, когда он, одержимый, пытался отскоблить с фамильного склепа тёмную метку. С тем же отчаянием, когда пытался срезать её со своей руки.
И всепроникающая усталость. Не физическая – душевная. Усталость от взглядов, от шёпота, от тяжести фамилии, которую он теперь должен был нести, не сгибаясь, но и не гордясь ею.
Малфой провёл рукой по лицу, и аромат кожи – с оттенком дорогого лосьона после бритья – на мгновение перебил привычные запахи библиотеки.
Он должен быть благодарен Поттеру за его прямолинейные, рубленые показания. Ей – за чёткий, логичный, неумолимый, как закон, отчёт, который спас его от Азкабана, но приговорил к вечному чувству долга.
Они не общались. С тех пор как Грейнджер давала показания, не было сказано ни одного слова. Но здесь, в этой тишине, под сводами, хранящими мудрость веков, сложилось хрупкое, молчаливое перемирие. Они были двумя островами в одном архипелаге после бури, каждый со своими демонами, но разделявшие одно море – море памяти.
Издалека, сквозь толщу камня и тишины, донёсся едва уловимый, волнующий аромат – свежеиспечённого имбирного печенья с корицей и гвоздикой. Домовики на кухне начинали предпраздничную вакханалию. Скоро коридоры наполнятся запахом хвои и мандаринов, зазвенят смехом, засверкают гирляндами.
А здесь, сейчас, царила только пыль старых фолиантов. И в ней тонули все их невысказанные слова, весь страх, вся вина и первый, неосознанный росток чего-то иного – общего понимания, что ад, который они пережили, был одним и тем же для всех.
Гермиона перевернула страницу. Драко закрыл глаза, позволив темноте под веками поглотить его. А библиотека, вечная и невозмутимая, хранила молчание, пока снаружи, в сердце Хогвартса, потихоньку разгорался рождественский дух.
Запах первый: Лимонный пирог
Запах в больничном крыле был стерильным, навязчивым. Пахло спиртовой настойкой шалфея, горькой мандрагорой и чем-то ещё, неуловимо-грустным – запахом бессонницы, страха и вымотанной плоти. Гермиона ненавидела его. Он въедался в волосы, в ткань простого хлопкового халата, напоминая, что она здесь – пациент, а не победительница.
Мадам Помфри прописала ей «Восстанавливающий сон» и мягкое успокоительное после того, как Пэнси Паркинсон нашла её в четыре утра в ванной девочек, трясущейся от немого крика. Паркинсон не сказала ни слова, просто привела школьную медичку. Этот жест, лишённый не только сочувствия, но и злорадства, был почти страшнее насмешки. Война кончилась, но продолжала бушевать в темноте за закрытыми веками.
Кошмар был всегда один и тот же: запах сырой земли, влажной шерсти Фенрира и дорогих, удушающих духов.
И голос.
Всегда голос.
«Грязнокровка».
Девушка проснулась с этим голосом в ушах, с сердцем, колотившимся в ребрах, как птица в клетке.
Мысли, как всегда, когда она была уязвима, потянулись к Рону. К их короткой, нелепой попытке сразу после войны. Это был ожидаемый всеми сценарий: герои, нашедшие утешение в объятиях друг друга. Первые поцелуи пахли порохом, пылью разрушенного замка и дешёвым сливочным пивом из «Трёх мётел». Они цеплялись друг за друга, как за спасательный круг, но круг оказался тесным и тяжёлым.
Он хотел забыть – громко, в веселье, в толпе.
Она хотела помнить, анализировать, зализывать раны в тишине.
Их свидания были полны неловких пауз, которые они пытались заполнить воспоминаниями о Хогвартсе, но даже те теперь были отравлены.
Рон морщился, когда Гермиона вздрагивала от резкого звука. Она злилась, когда тот отмахивался от её ночных кошмаров шуткой. Расставание было тихим, по взаимному, невысказанному согласию. Пахло остывшим чаем и невыплаканными слезами. Они остались друзьями. Остались друг у друга. И всё же… что-то важное сломалось, и починить его магией было нельзя.
За окном больничного крыла пылал холодный декабрьский рассвет, окрашивая стерильные стены в розовый цвет. В горле стоял ком. Потянулась за кувшином с водой, и движение рукава обнажило тонкую белую линию на предплечье. Гермиона резко дёрнула ткань обратно, как будто шрам мог увидеть посторонний.
Именно в этот момент дверь палаты тихо отворилась.
Гермиона замерла, ожидая увидеть строгий профиль мадам Помфри или, что хуже, озабоченное лицо Гарри. Но в проёме никого не было.
Только на полу, на пороге, стояла небольшая тарелка из тончайшего фарфора цвета слоновой кости с золотым ободком. На ней лежал аккуратный треугольник лимонного пирога.
Аромат ворвался в стерильное пространство, как дерзкий, жизнеутверждающий взрыв. Яркая, бьющая в нос кислинка цедры, переплетённая со сладостью идеально пропечённого безе и нежным, маслянистым запахом песочного теста. Это был запах из другого мира. Из мира солнечных кухонь, материнской заботы и тихого счастья, в котором не было места кошмарам.
Гермиона заворожённо смотрела на пирог, словно на заложенную мину.
Кто? Зачем?
Медленно, осторожно, спустила ноги с кровати. Пол был холодным. Подошла к двери и выглянула в коридор. Он был пуст. Только в дальнем конце мелькнул и скрылся за углом край тёмно-зелёной мантии.
Сердце совершило странное, непонятное движение в груди. Она знала эту походку. Высокомерную, даже в бегстве.
Малфой.
Увидев мелькнувший в коридоре край зелёной мантии, сознание Гермионы набросилось на этот факт, пытаясь примерить на него старые, изношенные шаблоны.
Насмешка.
В памяти всплыл образ мальчика с бледным, остроносым лицом, который кричал «Грязнокровка!» на первом курсе, саботировал, насмехался над дружбой с Гарри и Роном. Тот Малфой мог подложить пирог, начинённый миноксидилом и волшебным порошком, чтобы у неё выросли усы. Но не этот… этот тёплый, идеальный кусочек нежности.
Подняла тарелку.
Фарфор был на удивление тёплым, будто его только что заколдовали Сохраняющим заклинанием. Под тарелкой лежала аккуратно сложенная салфетка из тончайшего льна. Без единой метки, без записки.
Гермиона вернулась на кровать, поставила пирог на тумбочку и уставилась на него. Мысли метались, пытаясь найти логику. Насмешка? Но это было слишком… беззлобно. Слишком лично. Попытка отравить? Абсурдно. Мадам Помфри проверила бы любое угощение, да и Малфой был не настолько глуп.
Оставался только один вариант, самый невероятный: жест. Чистый, немой, лишённый всякого практического смысла жест.
Гриффиндорка отломила крошечный кусочек вилкой – серебряной, с гербом – и поднесла ко рту.
Вкус был ослепительным. Кислота ударила по вкусовым рецепторам, заставив сжаться скулы, но тут же её обняла, смягчила бархатистая сладость безе и рассыпчатая нежность теста.
Это было… прекрасно.
Это было живо.
Это было полной противоположностью серому, безвкусному больничному завтраку, который укоризненно ждал на подносе.
Съев кусочек, Гермиона почувствовала странное жжение в глазах. Не от боли. От чего-то другого. Нелепой, немой заботы, пришедшей с самой неожиданной стороны. От осознания, что кто-то – он – заметил.
Заметил, что её нет на лекциях.
Заметил и… что? Сжалился?
«Нет, – подумала она, глядя на золотистую корочку пирога. – Не жалость. Это что-то другое».
Образ высокомерного, жестокого мальчишки не накладывался на поступок молчаливого, наблюдательного юноши, который принёс пирог. Они не сходились, как неправильные пазлы. Мальчик с презрением смотрел бы на её слабость. Этот… что-то другое.
Возможно, это было спасительной соломинкой, брошенной тонущему человеку, который тонет в одном с тобой море.
Возможно, это была форма извинения, которую нельзя было произнести вслух.
А возможно – и эта мысль заставила её щеки слегка вспыхнуть – это был просто пирог. Кисло-сладкий, сложный и прекрасный, как и всё, что творилось между ними в этом хрупком, послевоенном мире.
Девушка доела все крошки, чувствуя, как тёплая сладость разливается по желудку, прогоняя внутренний холод. Запах лимона ещё долго витал в палате, смешиваясь с больничными антисептиками и… побеждая их. Два образа Малфоя в голове – прошлый и настоящий – больше не бились друг о друга. Начали медленно, мучительно переплетаться, создавая новую, пугающую и волнующую картину.
Лимонный пирог пах надеждой.
И мучительной, тревожной неопределённостью.
Перерождением. И самым неожиданным вопросом из всех: «А кем ты стал, Драко Малфой?».
Запах второй: Тыквенный пирог
Хогвартс готовился к Рождеству с лихорадочным, почти исступлённым рвением, будто пытаясь магией гирлянд и пряного печенья смыть с камней последние следы битвы. Воздух в замке изменился кардинально. Строгий запах воска, камня и застывших чернил был побеждён, оттеснён решительным нашествием праздника.
Пахло живой, смолистой хвоей от двенадцати громадных ёлок, расставленных в главных залах. Мандаринами с тёплыми, яркими шкурками, разложенными в серебряных мисках. Корицей, имбирём и гвоздикой – облаком специй, плывущим из кухонь и, кажется, просочившимся в самую кладку древних стен.
Но главенствовал, конечно, тыквенный пирог.
Его запах был плотным, бархатистым, согревающим. Сладковатая мякоть тыквы, острый мускатный орех, терпкая корица – смешивались в густой, уютный шлейф, обещающий домашнее тепло и праздничное изобилие.
Это был запах-объятие.
Именно под этим ароматным небом Гермиона и столкнулась с Драко.
Буквально.
Девушка несла стопку книг по заклинаниям защиты (теперь эта тема интересовала её с болезненной, клинической дотошностью) из библиотеки в гриффиндорскую гостиную, мыслями полностью погружённая в текст.
Малфой выходил из какого-то заброшенного класса на третьем этаже, внимание парня было приковано к длинному свитку пергамента в руках – вероятно, списку восстановительных работ, которые он, как староста, должен был курировать.
Староста-пожиратель смерти. Что-то вроде насмешки. Или обязательные работы – надо же было его хоть как-то наказать, если избежал Азкабана.
Удар был несильным, но неожиданным.
Книги с глухим стуком посыпались на каменный пол.
Свиток выскользнул из рук Драко и покатился, разматываясь, как ковровая дорожка.
– Простите, я не…, – начала Гермиона, автоматически наклоняясь, и в тот же миг их головы чуть не столкнулись.
Он тоже потянулся за книгами.
Они замерли в неловком полуприседе, разделённые грудой фолиантов.
Так близко.
Ближе, чем когда-либо со времени суда.
Гермиона вдохнула. И вместо привычного запаха морозного бриза и кедра от него пахло… деревом и пылью. И ещё чем-то сладким.
– Грейнджер, – произнёс парень, и это было не восклицание, не насмешка, а просто констатация.
Голос низкий, чуть хрипловатый с непривычки. Похоже, он давно ни с кем не говорил.
– Малфой, – кивнула гриффиндорка, ощущая идиотский прилив крови к щекам, – прости. Я не смотрела, куда иду.
– Очевидно, – бросил он, но в его тоне не было привычной едкости. Была усталость. Парень собрал несколько книг и протянул ей. Их пальцы не соприкоснулись. – Заклинания обороны? Всё ещё веришь, что они могут помочь?
Вопрос вырвался не как выпад, а как искреннее, горькое любопытство.
Гермиона приняла книги, чувствуя их привычный вес.
– Верю, что понимание механизма угрозы – первый шаг к защите от неё, – ответила она чётко, как на уроке. Потом, к собственному удивлению, добавила. – А ты что здесь делаешь? Этот класс… он был сильно повреждён.
Драко выпрямился, разминая спину. Взгляд скользнул по обгоревшим косякам двери, по следам взрывов на стенах, которые ещё не успели заштукатурить.
– Составляю отчёт для Флитвика. Что нужно восстанавливать в первую очередь. Окна, пол, потолочные балки…, – махнул рукой в сторону свитка. – Скучная работа.
– Необходимая, – поправила она, чуть более воодушевлённо, тоже поднимаясь.
Тишина повисла между ними, менее напряжённая, чем в библиотеке, но всё ещё хрупкая.
Запах тыквенного пирога становился почти осязаемым. Он что – повсюду?
– Украшения зала к празднику? – неожиданно спросил Драко, кивнув куда-то ей в район живота. В руках у девушки действительно было несколько веточек остролиста с ягодами.
– Да. МакГонагалл попросила… ну, распределила обязанности, – сказала Гермиона. Потом, движимая тем же непонятным импульсом, что заставил её задать вопрос, спросила. –А Слизерин? У вас там, наверное, свои традиции?
Уголок рта Драко дрогнул, но улыбкой это назвать было нельзя. Скорее гримасой.
– Традиции. Да. Серебряные паутины из инея, которые не тают. Живые змеи изо льда, ползающие по стенам. Всё очень… сдержанно. И холодно.
Он помолчал.
– В Мэноре было похоже.
Идеально, безупречно и… мёртво.
Слизеринец сказал это так просто, так безоценочно, что у Гермионы перехватило дыхание. Просто факт.
– У нас дома, – начала она, сама не зная зачем, – мама всегда вешала гирлянды, которые тихо мигали вразнобой. Папа покупал огромную живую ёлку, которая осыпала иголками весь ковёр. И всегда пахло имбирным печеньем и мандаринами, потому что мы ели их килограммами.
Девушка замолчала, чувствуя, как по щеке ползёт тёплая предательская капля.
Но это была слеза не горя.
Ностальгия.
По тому, что было до.
По простому магловскому счастью, которое она когда-то так яростно защищала, и которое теперь казалось такой далёкой, почти сказочной страной.
Молодец, Грейнджер, разреветься перед Малфоем!
Драко смотрел на неё.
В его взгляде не было ни презрения, ни насмешки.
Было то же самое немое узнавание, что и в библиотеке.
Ты тоже что-то потеряла.
Что-то своё.
– Звучит… шумно, – наконец, сказал Малфой, в голосе прозвучала чужая, неуверенная нотка чего-то, что могло бы быть… одобрением? Сожалением?
– Да, – выдохнула Гермиона, быстро смахивая каплю тыльной стороной ладони. – Очень шумно. И… мило.
Слизеринец кивнул, взгляд упал на веточку остролиста в её руке.
– В гриффиндорской гостиной, наверное, сейчас всё похоже на пожар в ёлочной лавке.
Неожиданно она рассмеялась. Коротко, почти фыркнув. Это был странный, давно забытый звук.
– Почти. Гарри пытался оживить ангела на верхушке, и у того теперь периодически дёргается глаз. А у Рона…, – она запнулась, вспомнив, что говорит с Малфоем о Роне. Но было уже поздно. – У Рона есть идея с живым огнём, который меняет цвет. Пока что удалось получить только дымное облако с запахом гари.
На лице Драко мелькнуло что-то неуловимое.
Почти улыбка.
Та, что не касается глаз, но меняет лицо.
– Уизли лучше не подпускать к огню, – произнёс он, и это было настолько близко к шутке, настолько далеко от яда их старых перепалок, что Гермиона просто смотрела на него, широко раскрыв глаза.
Малфой, кажется, и сам удивился сказанному. Поддержал разговор.
Лёгкая краска тронула его скулы.
Парень откашлялся, наклонился, чтобы подобрать последнюю книгу, и протянул ей.
– Приятно было… поболтать, Грейнджер. Удачи, – сказал он, отступая на шаг, восстанавливая дистанцию. Но щит между ними, кажется, уже был не цельным. В нём появилась трещина, и сквозь неё пробивался тёплый, пряный запах тыквенного пирога.
– Да. Спасибо… Мне тоже… приятно, – сказала Гермиона, принимая книгу. – И спасибо за… лимонный пирог. Это было… неожиданно.
Он не стал отрицать.
Не стал делать вид, что не понимает.
Просто кивнул. Ещё один короткий, почти невидимый кивок.
– Не за что, – пробормотал Малфой и повернулся, чтобы подобрать свой свиток.
Она пошла дальше по коридору, неся стопку книг и ветку остролиста.
Запах корицы и тыквы согревал изнутри, как глоток не остывшего глинтвейна.
Гермиона обернулась лишь раз, уже у поворота.
Малфой стоял на том же месте, разглядывая свой пергамент, но взгляд был рассеянным, устремлённым куда-то внутрь себя. Одинокий силуэт на фоне обгоревшей стены в коридоре, наполненном запахами праздника, которого он, казалось, не чувствовал.
Но ведь… когда-то чувствовал, наверное. В доме, где всё было идеально, безупречно и мёртво.
Гермиона прижала книги к груди и пошла дальше, в огни и шум гриффиндорской гостиной. Часть мыслей осталась там, в коридоре, где под общим, щедрым запахом пирога, двое бывших врагов впервые обменялись не колкостями, а обрывками воспоминаний.
Перемирие, сдобренное корицей и согретое теплом простой, человеческой тоски по дому.
Тыквенный пирог пах уютом.
И странной, тревожащей близостью чужой боли, которая вдруг оказалась так похожа на собственную.
Запах третий: Мятная жаба
Несмотря на приглашающие запахи корицы и глинтвейна, Драко Малфой искал не утешения, а забвения. И нашёл его в одном-единственном месте, где в предпраздничной суете его не трогали – на почти пустой трибуне для зрителей у замёрзшего озера, где тренировалась команда Гриффиндора по квиддичу.
Холодный, колючий воздух пах снегом и сосной, мокрой кожей и потом. Здесь не было ни пряного уюта, ни сладкого томления. Только резкая, честная свежесть, обжигающая лёгкие.
Парень сидел, закутавшись в самую тёмную мантию, какую смог найти, без герба, конечно, и смотрел, как в сумерках носятся красные пятна.
Они кричали, смеялись, их голоса доносились обрывками, полные азарта и пустого веселья. Им было легко. Им было проще забыть.
Тело, лишённое за последний год привычных изнурительных тренировок, скучало по этой боли, по этому точному, яростному расходу энергии. Но метла пылилась где-то на чердаке Мэнора, а возвращаться в команду Слизерина сейчас – значило бы стать мишенью и для чужих – Пожиратель, избежавший наказания и для своих – предатель, опозоривший фамилию. Не все слизеринцы придерживались такого мнения. Но энтузиасты были – напомнить ему. Правда, после пары жалящих заклинаний Блейза и едких колкостей Пэнси от него отстали. Вопреки мнению школьных сплетников, друзья у слизеринского принца были.
И всё же Малфой теперь пребывал в подвешенном состоянии, как снег, кружащийся в воздухе, не решаясь упасть.
Свисток.
Тренировка закончилась.
Игроки, громко переговариваясь, потянулись к раздевалкам, расположенным в каменном павильоне у кромки леса.
Драко уже собирался уйти, когда чуткий слух выхватил фамилию.
Грейнджер.
Шёпотом.
Так всегда бывает. Если начать говорить шёпотом, люди будут прислушиваться старательнее.
Но возвышавшийся над толпой дружков Кормак Маклаген вряд ли об этом задумывался. Он с лёгкой опаской бросил взгляд на быстро удаляющиеся в сторону раздевалок фигуры Поттера и Уизела. Те яростно спорили о новой тактике и на заговорщицкие шепотки не обратили внимания.
А Драко обратил.
Странные, мерзкие перемигивания. Похлопывания по спине. Что-то про пиво в «Трёх мётлах»…
Может быть, фамилия Грейнджер ему просто померещилась?
В последнее время она его преследовала.
Слишком много её высокомерно вздёрнутого носа, непослушных волос и изучающих глаз.
Стоит ли..?
Что-то ёмкое и кислое подкатило к горлу Драко.
Маклаген.
Тупой, самовлюблённый, невежественный выскочка. Символ всего громкого, бесцеремонного. На войне такие могли прятаться за чужие спины, а после неё носить свои шрамы (если они вообще были) как ордена.
Они же принадлежали к победившей стороне. Неважно, каков был их собственный вклад в эту победу.
Вместо того чтобы уйти, Драко, движимый внезапным импульсом, спустился с трибун и скользнул к задней стороне павильона. Оттуда, через полуоткрытую дверь, доносились голоса из мужской раздевалки.
Парень присел на корточки в тени, чувствуя, как утопает в глубоком снегу и тот забивается в ботинки, холодя кожу.
Запах мокрого камня, пота и старого дерева смешивался с ароматом чьих-то оставленных на скамейке мятных леденцов – резким, химически-сладким.