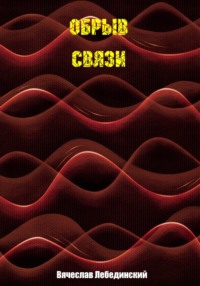Полная версия
Трагедии и победа Игнатия Назаровича

Вячеслав Лебединский
Трагедии и победа Игнатия Назаровича
***
Ежели пред вечером я запамятовал закрыть дверь своего кабинета, то сердечно прошу прощения и обращаюсь к вам с важной просьбой на каждый день всё же закрыть за мной, дабы я вас не беспокоил, так как до отхода ко сну я обязан для душевного своего спокойствия длинным пинцетом вырывать многочисленные и доставучие волосики из ушей и носа, из-за чего буду громко выть и кричать от нестерпимой боли.
Старая записка на двери Игнатия Назаровича.
***
Российская империя, Санкт-Петербург, 1895 год.
Как-то раз, утром, на набережной близ Невского проспекта, первый пласт искрящегося льда, сдавшись, треснул. Мороз нехотя отступал. Солнце же начало возвращать прежнюю власть, решив заглянуть к примечательному чудаку через окно его квартиры с прекрасной и даже завидной панорамой столицы.
Игнатий Назарович проснулся, сладко зевнул-мяукнул, и понял, что лежится на редкость хорошо, тёпленько-мягенько, а значит, дела подождут. Его резная кровать с матрацем привыкли к трудностям от хозяина с внушительными телесами и ростом ниже среднего, которому лучик солнца попал в глаз, заставив болезненно скривиться, резко отвернуть голову будто в обиде и разочарованно вздохнуть. Но нет – его так просто не одолеть! Он ухитрился защитить ладонью глаза-бусинки, чуть подумал, другой такой же пухленькой ручкой, созданной исключительно для пересчитывания денег, нашарил около себя книгу, расположил на своём нескромно выпирающем животе некогда солидного дельца, и принялся вновь осиливать Шопенгауэра.
В детстве Игнатия дразнили и даже доводили до слёз все, кому не лень, тем, что пристально смотрели с обезьяньими гримасами на его большие уши и восклицали одно и то же: «Лапоухий слон!» Но поглядели бы они сейчас, как эти уши вымахали словно крылья летучей мыши, и как они удивляли вполне зрелых и серьёзных людей так, что они до красноты смущались или вовсе от неожиданности теряли дар речи.
Погодя Игнатий сокрушённо взвыл и, как всегда, не сдерживая порыва своих буйных эмоций, зачастую не отвечая за них и даже не извиняясь, воззвал:
– Милостивый государь Шопенгауэр! Услышьте же меня оттуда, с той стороны жизни! Сколько можно нагнетать? Неужели жизнь и вправду такая тоскливая и бессмысленная пакость? А может, вам стоило писать свои труды не в мрачных сырых подвалах, будто ожидая новой порции плётки, а утречком во дворе или в парке, замечая прелести ненавистной вами жизни? Я вас, конечно, уважаю, но, право, всему же есть предел и…
К Игнатию постучали.
– А, к чёрту! – рявкнул он пухловатыми губищами. – Входите!
Дубовую дверь чуть приоткрыл слуга, одним глазом заглядывая-проверяя обстановку в кабинете и расположение своего господина на возможность швырнуть в него туфлей или чем потяжелее.
– Илья, ты! Что, есть веские причины меня тревожить?
– Доброе утро, ваше благородие. Пожаловали Захар Кириллович. Принимаем?
Игнатий бросил взгляд на окно, вновь поморщился от щедрого солнца, и прошептал:
– Что же он, совсем с дуба рухнул прийти в такую рань, когда падающий снег, тая, превращается в настоящую катастрофу?.. – спросил он скорее у себя самого. – Ладно уж! Пусть войдёт… И, Илья! Чайку на двоих. Добротнейшего!
Игнатий опомнился и хлопнул себя по лбу, засеменил полу-косолапыми ножками по турецкому ковру к дубовому комоду, собираясь для приличия успеть накинуть на себя хотя бы халат. Но на полпути он вспомнил и немного раскис оттого, что спит с недавних пор в одежде, потому что стыдный процесс одевания отнимал у него не только силы, заставляя сильно взмокнуть, но и нервы, которых почти не осталось. Уже как пару дней он был одет в ухоженные чёрные сапоги, итальянские брюки зеленоватого пошива, и льняную рубашку, поверх которой из нагрудного кармана лоскутного жилета (под стать переменчивого характера хозяина) свисала золотая цепочка часов фирмы Мозер. Впрочем, другой одежды у него было немного, и не сказать, чтобы это был слишком уж богатый человек: последнее время дела его шли неважно, приходилось всё чаще обращаться к ростовщикам и скупщикам, расставаясь с частичкой себя, и поэтому он всё более дорожил тем зажиточным и недоступным другим, что имел, надеясь, что и в его паруса подует ветер удачи.
В дверь снова постучали.
– Да что вы все, в самом деле, одурели что ли?! Кого вы из меня лепите? Я не князь какой-нибудь там Ршавский! Я – средний человек!.. Входите же!
В комнату, пригибаясь над наличником, вошёл настоящий великан, сверкнув моноклем на глазу. Человек этот, одетый относительно по-простому в тёмно-синий костюм тройку, был так худощав, что при каждой новой встрече в голове Игнатия Назаровича случалась какая-то дилемма, а иногда даже целая сенсация. Сегодня вот его посетила мысль, что, наверное, этот высокий как фонарный столб знакомый государь ел слишком много, или слишком мало, или то и другое сразу, что совсем абсурд, и в организме Захара Кирилловича происходили некие таинственные процессы, недоступные даже его, Игнатия, образованному и начитанному понимаю; а может, тут крылась иная и более зловещая тайна, заставляющая Игнатия иногда прищуриваться на Захара, пока тот отвлёкся, подмечая в нём некие детали или отклонения, вечерами записывая их, перечитывая и подводя неутешительные итоги.
Захар Кириллович снял с головы светлый цилиндр, приложил его к сердцу и, проникновенно посмотрев на Игнатия Назаровича, вкрадчиво сказал:
– С добрым утром вас, уважаемый-с. Ну, как мы сегодня поживаем? Я вот…
– Довольно! Сегодня вы окончательно пропали. Я наконец-то вас раскусил!
– Просите, я совсем далёк от понимания… – пробормотал тощий мужчина, чуть отступив.
– Долго же я ходил вокруг да около, да-с. Вы со своей нетипичной и даже неэтичной фигурой представляете из себя не что иное, а именно дерзость научного ума и очередную насмешку над природой – автоматона!.. А ну! Где у вас там пружинки и заводной ключ?! Показывайте!..
Захар Кириллович подобным образом был почти загнан в угол уже не раз, и в этот день он тоже смутился, но, выставив перед собой трость для защиты, остановил знакомого, намеревавшегося, видимо, заглянуть ему под платье.
Отдышавшись, Захар спокойно ответил:
– Для меня это совершенно незнакомое слово.
– Ну, то есть… – неуверенно начал Игнатий, немного остыв. – Вы бывали в Париже?.. Нет?.. И вы не слыхали никогда о механических куклах, способных не только двигаться и петь, но даже разговаривать?.. Нет?.. Ох, как досадно и неловко… Тогда… Давайте мы с вами хорошенько притворимся для дальнейшей доброй беседы, что прежнего разговора не было никогда. Согласны?
Захар Кириллович с улыбкой кивнул.
Игнатий Назарович сделал полный оборот как по часовой стрелке, будто отмотав докучающий момент назад, и, подняв голову чуть ли не до потолка, вновь встретившись глазами с гостем, воскликнул:
– Ух ты! Захар Кириллович! Какими судьбами вы сегодня так внезапно зашли ко мне, не предупредив на заранее о вашем появлении, как подобает людям определённого достойного статуса, видимо, всё же не вашего, или хотя бы простой гуманности и минимальной культуры?
– Игнатий Назарович, рад встрече! Да вот, знаете, прогуливался тут недалече, и дай, думаю, загляну к прекрасному человеку, попроведаю, дознаюсь об здоровье…
Захар Кириллович отличался определённой чертой характера, которую люди могли расценивать по-разному. На одной чаше весов было то, что он умел изумительно отсеивать негатив и лишнюю информацию, дойдя до того, что просто её не слышал, не доводил до сердца, словно сказанной язвительности или грубости не было вовсе. Порой создавалось впечатление его огромной невозмутимости и даже непробиваемости. На другой же стороне весов было то, что он также не улавливал важных намёков в настрое и душе другого человека, а значит, был снисходителен, воспринимал только важное для него самого, и порой казалось, что он совсем бесчувственный, как те самые автоматоны. То есть Захар воспринял последнее обращение Игнатия к себе так, что полностью осознал два первых высказывания, а третье только до заминки и последующего яда – или правды – тут уж кто как воспримет. Но как раз благодаря такой устойчивости или же равнодушию у Игнатия Назаровича был хотя бы один-единственный настоящий и весьма неплохой знакомый, помимо тех должностных лиц его круга, с которыми он только здоровался, обменивался деловой и купеческой информацией, и прощался.
– Полно, полно, Захар Кириллович. Я, к сожалению, догадался, почему вы ко мне заглянули.
– Да-с. Сегодня тот самый день…
– Единственный несчастный день в году, когда настроение моё, как какая-нибудь пакость, бывает совершенно растоптано будто дивизией бравых солдат.
– И вот, я тут, чтобы поддержать вас в трудный час и…
– А вы не подумали… – как часто и бывало, прервал Игнатий. – что могло получиться так… ЧТО Я НАКОНЕЦ-ТО ЗА ТРИ ГОДА ВЗЯЛ ДА ЗАБЫЛ ОБ ЭТОМ ПРОКЛЯТОМ ДНЕ, А ВЫ ВЗЯЛИ И, ЧЁРТ БЫ ВАС ПОБРАЛ, НАПОМНИЛИ МНЕ О НЁМ?!
Ещё никогда не было такого, чтобы Игнатий Назарович взрывался как бомба. Эта ярость, захватившая всего мужчину как лихорадка, заставила мгновенно побагроветь, словно его душили, глаза его выпучились и стали бешено вращаться как у сумасшедшего, рот злобно скривился словно от сердечного припадка, а вылетевшие из него слюни почти достали до Захара Кирилловича, который замер на месте и похолодел как мёртвый, чувствуя себя от испуга так же, понимая свою ошибку.
К счастью для обоих в дверь постучали. Игнатий взболтнул головой, болезненно кашльнул в сторонку, и тоненько, как ни в чём ни бывало, отозвался:
– Заходите, прекрасные люди, всем рады.
Тихонько толкнув дверь бронзовым подносом, в комнату с опаской в настороженных глазах вошёл Илья, и солнце на миг красиво заиграло на его коротких рыжих кудрях. На подносе стояли две фарфоровые кружки на блюдцах, чайник был расписан полевыми цветочками, а обаятельная сахарница в виде улыбающегося бегемотика тоже являлась частью французского сервиза.
Игнатий Назарович посмотрел на своего слугу без капли интереса, как на швабру, полуприкрытыми глазами, которые могли показаться даже блаженными, потому что в одно мгновение он совершенно успокоился, будто его окатили ведром ледяной воды.
– Илья… – начал хозяин. – что-то я не чувствую аромата добротнейшего чая. В чём дело?
– Так точно, ваше благородие, он закончился. Пришлось подавать кофей.
– Хо-хо, ты меня насмешил… Разве ты не знаешь, что многоуважаемый и чуткий Захар Кириллович как раз кофей и не любит, пусть даже со сливками и с печеньем? У их высочайшего сословия, видите ли, от такого напитка потом сильно стучит сердечко, и головушка побаливает. Да и как, скажи на милость, в таком значимом доме с крупным достатком мог закончиться чай высшего сорта? Поразительно! Неужели некий забывчивый и единственный в доме слуга непросто не побеспокоился о пополнении необходимых для редчайших гостей запасов, но и, по моим догадкам, сам приложил руку к их исчезновению?
– Я как раз с утреца-с хотел пойти в лавку и приобрести ну хоть чего-нибудь «достойного», так как ничего не осталось для гостей – но пришли почтенные Захар Кириллович, и я принялся тут же хлопотать. А вы же, господин, очень… бережливы… и на ваши монетки… то есть я хотел сказать, деньги, не так-то просто купить нечто…
– Что я слышу?! – схватился за голову Игнатий. – Неужели сейчас ты посмел паясничать?.. Всё сказанное тобой более чем невероятно и неправдоподобно. Не позорь же меня, не ставь в неловкое положение и удались. Придёт для тебя невесёлый час, и я строго поговорю с тобой и выведу на чистую воду.
Привыкший ко всякому в этом доме слуга и ухом не повёл, поставил поднос на низенький китайский столик и принялся удалятся. Когда хозяин, хмурясь о чём-то мрачно задумался, глядя на приличную книжную полку, уже закрывающий дверь Илья доверительно и быстро закивал Захару Кирилловичу, мол, всё сказанное им – незыблемая истина. Тот тоже успел понимающе кивнуть слуге, совсем не зная, как дальше быть с Игнатием и что он опять «эдакое» выкинет.
Хозяин дома, подкинув поленьев в печку, ладно расположил их кочергой, закрыл затворку и, не глядя на гостя, сказал:
– Возможно кто-то подумает, что я немножко впал в крайность или даже вспылил… Извиняться я не собираюсь, даже не просите. Но я довожу до вашего сведения, уважаемый Захар Кириллович, что вообще-то человек я спокойный, даже мирный, и, уж поверьте, прекрасно умею держать себя в руках. Вот увидите, такого больше никогда не повторится. Ни в этой, ни в другой жизни. Это окончательно и бесповоротно.
– Очень и очень рад такое услышать, Игнатий Назарович. Знаете, вот давеча я весьма приятно посидел в ресторане, откушал незабываемой стерлядки в добрейшей ухе, то есть приготовленной на совесть и даже с ломтиками лимона, и как-то нечаянно уловил разговор двух сударей об важности образования и…
– А-а-а, вот в какие измышления вас потянуло, – вновь оборвал Игнатий, с трудом, но деловито и важно скрестив руки на груди. – Знаете, я и сам своего рода знаток. Да-с, у меня тоже наболело, и я хорошо и много читаю, да и сам кой-чего могу сообразить в этой запутанной жизни. Вы говорите, образование? Да, это важно. Но я считаю, что его с собой, «туда», не заберёшь, а значит, духовный груз будет гораздо важнее. Воздержанность от материальных излишеств ещё ни одному человеку не навредила.
Захар Кириллович одним глазом через монокль окинул блещущий экстравагантностью облик знакомого: его зеркально гладкая плешь на голове всё так же отражала верхние миры; извечно чуть слезливые глаза – теперь правда более уставшие, даже блёклые и с отчётливыми потемнениями под веками, – Игнатий тайком протирал платком; неизменно косматые брови и в целом упитанное бледноватое лицо пытались отвлекать завитые кверху редковатые усы как у сома или фокусника с уклоном в злодейство. Затем, как бы задумавшись, Захар мельком осмотрел перемены в кабинете на предмет пополнения тех или иных безделушек, вроде: неисчислимых статуэток милых зверушек, стоящих в ряд на столиках как на параде; десятках резных музыкальных шкатулочках, несомненно, для поднятия настроения; а также на покоящуюся в рамах на стенах лепидоптерологическую коллекцию бабочек и мотыльков, которые всей пышностью красок и удивительных размеров не могли не радовать глаз. И тут Захара посетила мысль, что, да, кому-то очень хорошо и даже прилично вздыхать на людях и рассуждать о непозволительной и даже невозможной нищете и голодающих в наше время, в то же время отламывая себе приличный ломоть хлеба и ножку у запечённого фазана, запивая всё добро на заполненном яствами столе дорогостоящим вином в искушённой чужими благами компании зажиточных особ, которые настаивают и даже, якобы, прикладывают руку к процветанию всемирного равенства, потому что его заслуживают все; но эти же особы презрительно относятся к тем даже, кто чуть выше их по достатку или исключительным достоинствам; а если – гораздо ниже – то и подавно, и на их скрытый яд простому люду ничего не остаётся, как отвечать той же монетой. И всё же Захар осознал, что без этих безделиц в кабинете, так или иначе поддерживающих и радующих этого отчего-то несчастного и чувствительного как арфа человека, Игнатий Назарович совсем пропадёт.
– Вам не удалось скрыть от меня свой оценивающий и завидующий взгляд. Не судите, да не судимы будете.
– Кстати, о Боге…
– О-о-о… Сложно, весьма сложно опровергнуть Его существование. Но и обратное – тоже непросто. Многие пытались, и получалось так, что они сами себя загоняли в тупик противоречий. Атеисты же, сами того не понимая, верят в пустоту, волю случая, а значит и в хаос. Но, зачастую ознакомившись поближе с некими глубокими суждениями таких достойных мастеров своего дела, как духовенство, психологи, доктора, чиновники, философы, даже артисты и прочие, может показаться, что кой-где уловил гениальную мысль вроде непоколебимой истины из их круга деятельности. Но на деле же это всего лишь их мнение – ненадёжная монета, подчинённая тем или иным настроением, – и хуже того, подчас от этих мнений, которые они поворачивают, как им вздумается, многое зависит, даже жизни, но они так хитро обёрнуты в относительно умные слова оболочки профессионализма, что мы им доверяемся, и потом расплачиваемся за это. Но и наше суждение на их счёт, а оно же и мнение, в большинстве своём тоже подчинено настроению, и получается какой-то замкнутый круг беспорядка. До чего дошёл прогресс – ничего не понятно!..
Захар Кириллович, задумавшись, и сам не понял, что достал из кармана платок, в который бережно завернул день назад подаренную знакомым офицером кубинскую сигару. Из того же кармана он достал коробок спичек, потряс им, извлёк спичку, чиркнул и, почти коснувшись огоньком сигары во рту, уловил хищный взгляд Игнатия Назаровича, от которого замер.
– Ну что это за пошлятина? – прошипел хозяин дома, покачав головой и направляясь к крупному глобусу. – Какая безнравственность и бестактность! Кто вам разрешил дымить здесь как паровоз? И почему мы стали забывать о вечных незыблемых ценностях?..
С этими словами Игнатий открыл глобус, отошёл в сторонку, и с ослепительной, но хитрой улыбкой широким жестом обвёл отечественные бутылки водки первого сорта, портвейна, кое-где армянского коньяка и даже шампанского в изысканных формах – гранёных, пузатых, и в виде мифических зверей.
– Вот! – гордо воскликнул он. – Антигрустин на все случаи жизни!
Захар Кириллович чуть усмехнулся и сказал:
– Право, не ожидал, что вы так искусны в употреблении.
Игнатий повернулся спиной к знакомому, дошёл до книжной полки. Одев пенсне, он принялся что-то там искать и как бы невзначай парировал:
– Человек слабее своих инстинктов. Я думал, вы знали.
– Дело вкуса – не догма, – ответил Захар, всё же запалив сигару. – Намедни слышал я удивительную новость, что в Пскове…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.