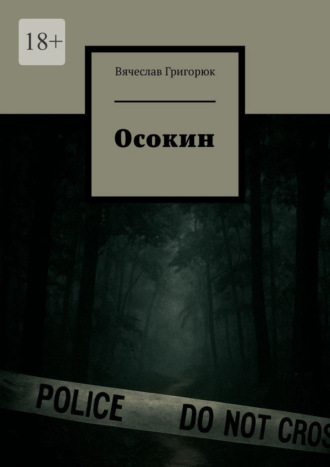
Полная версия
Осокин. Том 3
Никаких других следов.
«Значит, убийца стоял далеко… или вообще не входил?»
Он нахмурился.
Выстрел через окно? Но почему окно настежь? Кто открыл?
Или Иванов сам?
Он представил: пенсионер открывает окно, чтобы проветрить… к нему что-то летит… белый пшик, вспышка… соль бьёт в грудь и лицо… мгновенный спазм…
Но слишком много допущений.
Осокин сел обратно, выдохнул. Жара давила так, будто воздух стал одним большим одеялом, накрывающим его сверху.
Он снял пиджак, бросил на спинку стула. Вода в бутылке закончилась. В горле першило.
Он откинулся на спинку, вытянул ноги.
Фотографии лежали перед ним, словно набор признаков, указывающих на убийство, которое не хотело быть раскрытым.
Тишина давила.
Он снова взял фото стены, подвигал его, чтобы поймать свет.
Соль.
Всё указывало на соль.
Он поднялся, подошёл к доске. С недавних пор он стал пользоваться специальной доской. На нее капитан вывешивал основные улики. Вот и сейчас прикрепил снимок стены кнопкой. Рядом – фото кружки, порошка, сетки.
Потом взял маркер, написал под стеной: «ЗАРЯД?»
Под порошком: «СОЛЬ?»
Под кружкой: «НЕ СЛУЧАЙНО?»
Он стоял у доски, будто ждал, что она ответит.
Но ответов не было.
И тогда впервые за утро он почувствовал азарт. Слабое движение внутри, как вспышка в ночи.
Дело Иванова было не случайностью. Не несчастным случаем.
Не возрастом.
Кто-то пришёл молча. Выстрелил молча. Исчез так же молча.
И оставил после себя только след на стене – едва заметный, но достаточно упрямый, чтобы не дать делу затонуть.
Осокин вдохнул глубже. Похмелье не отступило, но мысль стала твёрдой.
Это убийство. Холодное. Рассчитанное. Необычное.
Он вернулся к столу и начал печатать первые строки отчёта:
«Вероятное использование самодельного сыпучего заряда. Пуля отсутствует. След на стене соответствует удару материала с низкой кинетической силой. Требуется экспертиза белого порошка.»
Остановился. Смотрел на написанное.
Да.
Это начало.
Но самое важное – понять, кто мог так действовать.
Время перевалило за полдень, но жара даже не думала спадать. Воздух в кабинете стал гуще, будто горячая смола. Бумаги прилипали к ладоням, ручка скользила, оставляя неровные штрихи. Осокин сидел за столом, уставившись в карту дачного посёлка. Линии тропинок почти не читались – свет из окна бил слишком ярко, отражался от ламинированной поверхности и выжигал глаза.
Он хотел закрыть глаза, хоть на минуту, но в дверь раздался вялый, нерешительный стук. Одно постукивание. Пауза. Потом ещё два – будто человек передумал уходить и всё-таки решился.
– Войдите, – сказал Осокин, не поднимая головы сразу.
Дверь скрипнула. В кабинете воцарилась тень. Осокин только тогда взглянул – на пороге стоял мужчина лет пятидесяти, лоб блестел от пота, рубашка была пропитана запахом улицы и дешёвого табака. Кепку он держал двумя руками, как школьник, пришедший отвечать за разбитое окно.
– Это… вы капитан Осокин? – голос дрогнул.
– Я. Заходите.
Мужчина шагнул внутрь, медленно, с опаской. Он сел на стул напротив, положив кепку на колени и тут же снова перехватив её пальцами – теребил, сминал, разглаживал.
– Блинов, – сказал он. – Сосед покойного. Арсения.
Осокин взял блокнот, открыл чистую страницу.
– Слушаю.
Блинов сглотнул, горло у него дернулось. Глаза бегали – на стол, на окно, на фотографии на шкафу.
– Я… пришёл сам. Не могу… ну, совесть, понимаете… – он вытянул губы, вздохнул. – Думал – ерунда. А потом ночь… не спал.
Осокин кивнул. Молчание длилось ровно столько, сколько нужно, чтобы собеседник заговорил сам.
И тот заговорил.
– Видел я у Арсения мужика одного, – сказал Блинов. – Высокий. В тёмном… ну, куртка или толстовка, чёрная такая. С рюкзаком за спиной.
– Когда? – спросил Осокин.
– За день до смерти. Днём. Часов… – он морщился, вспоминая, – ну, два, может, три. Жара была такая же, как сегодня.
– Что делал?
Блинов облизнул губы.
– Стоял у калитки. Не стучал, не звал. Просто… стоял. Я ещё подумал – может, знакомый. У Арсения люди иногда бывали, ну, пару раз за лето. Но этот… – Блинов помотал головой. – Не знаю. Странный. Молчаливый.
– Приметы?
Блинов поднял глаза, будто надеялся прочитать ответ на потолке.
– Да какие приметы… лицо не разглядел. Ушёл быстро. В сторону реки. Есть тропа там, мы её… ну, местные знают. Сквозь кусты вниз. Он туда и свернул.
Осокин записывал короткими штрихами. Почерк получался угловатым, резким, будто отрывистым дыханием.
– Местный? – спросил он.
– Не… не знаю. Может, да. Может, нет. Я людей не всех знаю. А может, приезжий – таких полно.
– Почему не сказали вчера?
Блинов сжал кепку так, что та почти потеряла форму.
– Я ж думал – не важно. Ну мало ли… ходил человек. Может, турист какой. Или грибы искал, там лес рядом… – он поднял руки, будто сдавался.
В этот момент зазвонил рабочий телефон. Осокин снял трубку. Выслушал, и, сказав «Хорошо», положил трубку.
– Запишите ваши показания, – он протянул Блинову чистый лист и ручку, – а я пока отлучусь ненадолго. Как закончите, можете идти.
Оставив в кабинете одного Блинова, Осокин вышел.
Коридор лабораторного блока всегда казался Осокину отдельным миром – тихим, стерильным, прохладным даже в самую жару. Сегодня прохлады не чувствовалось: стены из светлого пластика отдавали духотой, лампы жужжали, создавая ощущение замкнутого пространства. Ноги тянуло, словно в них налили свинца. Похмелье уже прошло, но тяжесть осталась – внутри живота, в голове, где-то между бровями.
Лаборатория располагалась в конце коридора. Дверь была приоткрыта, тонкая полоска холодного света лежала на полу, будто кто-то провёл мелом. Осокин толкнул дверь плечом.
Запах ударил сразу – спирт, железо, пластик. И ещё что-то едкое, напоминающее пережжённую пыль. В помещении было чисто, но это ощущение стерильности не делало атмосферу легче – воздух здесь тяжелее, чем в отделе.
Даша сидела за центральным столом. Халат на ней был чуть великоват, рукава закатаны до локтей. Волосы собраны в тугой хвост. На столе перед ней – микроскоп, два лотка с образцами, ноутбук, всякие чашки с прозрачными крышками. Она набирала что-то на клавиатуре, не отрывая взгляда от экрана.
Осокин постучал по косяку пальцем. Тихий звук – но Даша сразу повернулась.
– А, Данил Васильевич, – сказала она. Голос усталый, но собранный. – Есть результат.
Он подошёл ближе. Лаборатория, как всегда, казалась ему слишком яркой – всё белое, металлическое, отражающее свет. Здесь невозможно спрятаться ни человеку, ни ошибке.
На экране ноутбука было увеличенное изображение: неровные кристаллы, блестящие, с острыми краями. Осокин вгляделся – структура напоминала морскую соль.
– Не металл, – сказала Даша. Она увеличила масштаб. – В пробах из тканей – натрий. Калий. Следы нитрата. На одежде – то же самое. И небольшое количество пороха.
– То есть… – начал он.
– Да. Это соль, – спокойно закончила она. – Смесь крупной соли и пороха. Самодельный заряд.
Осокин выпрямился. В груди что-то ухнуло – не удивление, а ощущение, что пазл начал складываться, хотя рисунок пока неясен.
– В доме оружия нет, – сказал он.
– Нет, – подтвердила Даша. – Я просматривала все образцы: мебель, пол, ручки дверей. Никаких следов смазки, металла, пыли от ствола. Значит, заряд принесли с собой. И… – она поколебалась, – использовали его один раз. Следы ограничены только и стеной и прожжённой сеткой.
Осокин молча смотрел на экран. Кристаллы казались красивыми – неправдоподобно правильными, аккуратными. Но под этим блеском скрывалась работа рук, знающих, что делают. Кто-то взвешивал, смешивал, спрессовывал. Не любитель. Не человек, который делает самострелы ради хулиганства.
– Тип оружия? – спросил он.
– Сказать сложно. Самодельное. Мог быть маленький ствол, труба, обрезанный механизм для запуска пиротехники. Дальность – минимальная. Иначе заряд бы рассыпался в воздухе.
Она увеличила изображение ещё раз.
– Видите краевые изломы? Они характерны для резкого нагрева и такого же резкого остывания. Соль испарилась частично, но кристаллы сохранились. Значит, удар был сильным. Но не как у пули. Скорее как…
Она задумалась, подбирая слова.
– Как импульс. Термальный. Может, давление.
Осокин тихо вздохнул. Ему казалось, будто воздух в лаборатории стал ещё плотнее. Он вспомнил стену в доме Иванова – вспученную штукатурку, налёт, похожий на известь. Тогда он подумал о работе температуры. Теперь это приобретало новый смысл.
Он сказал:
– Соль. Значит, выстрел погас до контакта.
– Почти, – кивнула Даша. – Если бы стреляли с большого расстояния, остались бы рассеянные микрочастицы. Здесь же концентрация высокая. Очень близко. Почти в упор.
– Бесшумно?
– Относительно. Такой заряд не даёт громкого хлопка. Только резкий щелчок. И много света – вспышки.
Осокин представил кухню Иванова. Старик сидит за столом. Кружка в руке. В окне жара. Радио шипит. Человек подходит со спины. Поднимает самодельный ствол. Нажимает.
Один щелчок. Вспышка. Пара мгновений – и сердце старика не выдерживает. Спазм. Шок. Резкое прекращение деятельности.
Быстро. Тихо. Чисто.
– На что это похоже? – спросил он.
Даша подняла глаза, долго смотрела ему в лицо, будто не хотела говорить вслух.
– На подготовленный акт. Убийца шёл с этим зарядом заранее. Он знал, что делает.
Слова звучали так буднично, что от этого становилось холоднее.
Осокин кивнул.
– Дашь копию отчёта?
Она уже тянулась к принтеру.
– Конечно. Я добавила фотографии, спектральный анализ, замеры частиц. Вечером дам полный протокол.
Пока принтер шумел, Осокин прошёлся взглядом по лаборатории. Отсутствие хаоса, аккуратность, ровные ряды инструментов – всё это действовало успокаивающе. Но внутри у него было другое – ощущение, что дело становится не просто необычным. Оно переходит в плоскость намерений. Холодных, точных, заранее просчитанных.
Он забрал листы. Поблагодарил и вышел.
Коридор встретил его эхом шагов. Тишина давила на уши сильнее, чем шум. Он прошёл мимо окна – солнце резануло по глазам. Всё вокруг было таким же ярким, как и в лаборатории, но куда грязнее.
В кабинете Блинова уже не было. На столе лежал исписанный листок с показаниями и внизу дата и подпись. Осокин снял прикреплённые фото с доски, сел за стол, положил отчёт перед собой. Фото Иванова он достал из папки, медленно подвигал ближе. Старик лежал на полу. Выражение лица – словно удивление смешалось со страхом. Как будто он увидел не оружие, а самого убийцу. Узнал.
Осокин провёл пальцем по краю фотографии.
Выстрел был в упор. Без борьбы. Без следов вторжения. Значит, либо старик пустил человека сам, либо убийца вошёл тихо, уверенно, не вызывая у жертвы тревоги.
Он вспомнил слова бабы Луши: хлопок, дымок, прожжённая сетка. Всё указывало на то, что заряд мог быть небольшой, почти игрушечный – но сделанный с расчётом на эффект.
Он наклонился, смотря на снимки стены. Заметил мельчайшие блестящие точки – раньше не видел. Теперь же понимал. Крошечные соляные кристаллы. Следы выстрела.
Закрыл папку с отчетом.
Он взял ручку, открыл блокнот, сделал запись:
«Выстрел солью. Заряд самодельный. Расстояние – минимальное. Направление – со стороны двери или спины.»
Пауза. Ручка зависла.
«Кто бы ни был – готовился заранее.»
Он закрыл блокнот, откинулся в кресле. В голове медленно собиралась картинка – ещё размытая, но уже не пустая. Убийца пришёл к Иванову не импульсивно. Не случайно. Он выбрал метод, который оставляет минимум следов, почти не вызывает шума, действует быстро.
Так действует человек, который не хочет шума. Который уверен в себе.
Который знает правила – и умеет их обходить.
Осокин провёл рукой по лицу, чувствуя саднящую усталость.
Не было ни одной зацепки, но было то, что он чувствовал – нутром, инстинктом, внутренним холодом.
Кто-то начал игру.
И делал это не в первый раз.
Данил снова открыл папку и посмотрел на верхнюю фотографию. Стена. Светлое пятно, в центре которого – едва заметная зернистая воронка. Снимок был резкий, даже слишком; вспышка экспертов подчеркнула все дефекты штукатурки, вытянула рельеф так, будто перед ним не обычная кухня, а карта местности. Он всматривался, пытаясь уловить ту деталь, которая должна была подсказать ответ, но кадр был честен: ничего лишнего, ничего, что можно ухватить. Только след. И тишина вокруг него.
Он медленно провёл пальцем по краю снимка. Холодная глянцевая поверхность была гладкая, но внутреннее ощущение – будто он прикасается к той самой стене, под которой лежал мёртвый старик. Вспомнился запах – прелой тряпки, съеденной временем краски, слабый дымок, будто в доме недавно тушили не огонь, а что-то вроде тлеющей соли, без запаха, но с металлическим оттенком в воздухе.
Осокин положил фотографию обратно и взял другую – крупный план того самого белого налёта на столе. Даша аккуратно сняла образец шпателем, оставив на поверхности тонкий след. На фото крупинки блестели, будто мелкий снег. Но это был не снег. Соль. Соль, которая убивает, если разогнана до нужной скорости.
Он опустился в кресло. Оно скрипнуло под его весом. День стоял жаркий, жара залезла в стены, в стол, в одежду. Рубашка прилипла к спине. В углу, под потолком, старый вентилятор щёлкнул, вздрогнул и снова затих.
Осокин наклонился вперёд, локти упёрлись в стол, кулаки сжались. Он смотрел на снимки одного и того же места, каждый раз замечая одно и то же – ничего. Убийца не оставил ошибки. Или оставил – но слишком тонкую, слишком продуманную.
Он вспомнил слова Даши: «Самодельный заряд».
Соль + порох. Метод простой, но почти не используемый. Неэффективный на расстоянии. Но на ближнем…
Да, на ближнем – смертельно.
Осокин закрыл глаза. Сразу всплыло лицо Иванова. Старик сидел, держал кружку. Не ждал смерти. Не готовился. Не защищался. Он даже поднять голову не успел.
Кто-то стоял напротив. Очень близко. Кто-то, кого он не испугался сразу.
Человек, которому он открыл дверь? Или человек, который вошёл сам?
Второе более вероятно. Дверь была заперта изнутри, но на запоре старого образца – такие можно подтолкнуть шпилькой или затвором. Старики редко меняют замки.
Осокин снова взял фотографию стены.
След. Круглый отпечаток. Неглубокий.
Пуля из соли не пробьёт штукатурку. Она разлетится. Кристаллы впиваются, оставляя лёгкие царапины и пятна. Он видел такое раньше – на учениях, когда один из инструкторов показывал «самодельные решения», которыми пользовались лагерные умельцы.
Но тогда заряд был слабее, примитивнее. А здесь…
Здесь работал кто-то, кто знал, что делает.
Осокин открыл блокнот. На последней странице – список версий, короткие пункты, сухие, как математические формулы.
– Сердечный приступ – исключено.
– Отравление – нет токсинов.
– Электротравма – нет повреждений.
– Тепловой удар – температура тела не соответствует.
– Механическое воздействие – нет нарушений тканей.
– Убийство кустарным зарядом – да.
Он перечеркнул все строки, оставив последнюю.
Её он подчеркнул дважды.
Это убийство.
Но мотив?
У Иванова нет врагов. Пенсионер, бывший слесарь, одинокий. Дочка – в Норильске. Сын – в Германии. Приезжают раз в год, иногда реже. Коммуналку платил вовремя. На участке – сорняки по колено, но аккуратная тропинка. Никаких долгов. Никаких конфликтов.
Убийство ради чего?
И главное – зачем так сложно?
Если хотели скрыть преступление – можно было устроить пожар, инсценировать несчастный случай, а не мастерить пули из соли.
Если хотели, чтобы смерть выглядела естественной – то почему оставили след на стене?
Непрофессионально?
Нет.
Слишком профессионально.
Он достал снимок окна. Москитная сетка прожжена в одном месте. Круглый прогар, будто кто-то ткнул сигаретой.
Сигарета?
Нет, слишком ровно.
Тепловой импульс?
Возможно.
Но от чего?
Самодельное устройство?
Поджигатель?
Газовый рычаг?
Он провёл пальцем по виску. Надо было поехать на место ещё раз.
Стоять у той стены, чувствовать влажный воздух, смотреть на прожжённую сетку своими глазами – без промежуточных линз, экранов, отчётов.
Он немного отклонился назад, кресло скрипнуло снова.
Папка лежала перед ним. Толстая, с резинкой, чтобы не разъезжалась.
На обложке – номер дела и фамилия: «Иванов А. Л.»
Всё было аккуратно оформлено. Как всегда.
Он перевернул папку, снова разложил фотографии веером.
Стена.
Стол.
Кружка.
Налёт.
Следы босых ног. Прожжённая сетка.
И тишина, которая будто стояла за его спиной, наклонялась, дышала в шею.
Осокин почувствовал, как внутри поднимается усталость – та, которая не проходит ни после сна, ни после работы, ни после алкоголя. Усталость, знакомая каждому оперуполномоченному со стажем: усталость от отсутствия ответа.
Соль.
Соль, как символ – очищения. Соль, как символ – боли. Соль, которая в старых поверьях отпугивает нечистое.
Он усмехнулся краешком губ. Не вслух – лишь внутреннее движение.
Да, именно так выглядело это дело. Появилось ниоткуда, без логики, без следов.
Только тонкий белый налёт, который укажет на убийство тем, кто умеет смотреть.
Но убийца не думал, что такой человек окажется здесь. Не думал, что в отделе найдётся тот, кто не примет «сердечный приступ» на веру.
Он поднялся. Стул откатился назад, ударился о стену. Где-то за окном проехала машина, звук мотора быстро угас.
Осокин прошёл к окну – осторожно, будто выбирал шаги, хотя пол был ровным.
Распахнул жалюзи двумя пальцами.
Улица – в жарком мареве. Асфальт дрожал, словно вода. Дворник лениво обметал пыльную площадку, будто пытался согнать жар.
Никто снаружи и не подозревал, что на расстоянии двадцати километров, в старой облезлой даче, произошла идеальная казнь.
Он закрыл жалюзи. Тень легла на кабинет – густая, как чёрный чай.
Осокин вернулся к столу, собрал снимки, убрал в папку. Каждое движение – тихое, точное, размеренное. Как всегда.
Он застегнул резинку, убедился, что бумаги лежат ровно. Взял папку подмышку.
У двери остановился на секунду. Прислушался.
Отдел шумел где-то вдали – голоса, телефон, шаги. Но здесь, в коридоре напротив его кабинета, стояла абсолютная тишина.
Жара, тишина, дело без мотива и выстрел без пули.
Он щёлкнул замком двери.
Повернулся и пошёл по коридору. Не спешил.
Дело только начинается.
И это был тот редкий момент, когда Данил Васильевич Осокин чувствовал – всё, что будет дальше, сломает или его, или убийцу.
Без вариантов.
4
Самолёт дрожал. Воздух за иллюминатором был густой и серый.
Лиля смотрела вниз – на полосы рек, на поля, на тянущиеся вдаль дороги. Всё казалось нереальным, как будто чужим сном. Когда шасси оторвались от земли, она почувствовала лёгкость, похожую на страх. Не от полёта – от того, что больше нечего терять.
Она не брала много вещей. Чемодан, сумка, документы. Всё остальное осталось там, где теперь тишина, неубранная постель и короткая записка на кухонном столе.
Иногда ей казалось, что слышит, как Осокин открывает дверь, находит записку, читает, молчит. Но, скорее всего, он просто убрал её в карман. Без слов. Без попыток догнать.
Всё, что между ними было, сжалось до нескольких дней. Жизнь без спешки, без шума, но и без дыхания. Она чувствовала, как каждое утро становится одинаковым. Осокин уходил рано, возвращался поздно, всегда с тяжёлым взглядом, будто несёт на себе не тело, а тень чужих судеб. Он садился на край кровати, молчал. Лиля пыталась говорить – он слушал, но не слышал.
Она не знала, как живут такие люди. Как можно жить с кем-то, кто всё время где-то внутри себя. Он не был груб, не был равнодушен, но и не был рядом. Между ними стояла пустота, не злая, не холодная, просто равнодушная.
Вначале она думала, что это пройдёт. Что он выговорится, привыкнет, найдёт место для неё между своими делами и отчётами. Но у него не было «между». Была только работа – серая, вязкая, полная запаха бумаги и крови.
Она поняла это однажды утром, когда он стоял у окна и пил кофе, не замечая, что солнце светит прямо в глаза. Он смотрел в пустоту так, будто пытался там что-то поймать. Может, след, может, мысль. Тогда Лиля впервые почувствовала, что не нужна. Не как женщина, не как человек. Просто лишняя деталь в его мире, где всё выстроено по служебному уставу.
Она не винила его. Он такой. Из тех, кто не умеет жить просто. Кто вместо сна думает о чужих преступлениях, вместо разговора – о рапортах. Она знала, что он хороший человек. Только не для неё.
Решение уйти пришло тихо. Без истерики, без ссор. Просто она поняла: всё кончено. Не потому, что не любит. А потому, что любви не было.
Когда самолёт набрал высоту, она закрыла глаза. Мысли метались, как птицы в тесной клетке. Ни сожаления, ни гнева. Просто усталость. Ей хотелось забыть, как звучит его шаг в коридоре, как он достаёт из шкафа форму, как медленно засовывает кобуру в сумку, как долго ищет ключи перед выходом. Все эти мелочи теперь болели, как синяки.
Лиля посмотрела на облака. Белые, ровные, как выстиранные простыни. Там, за ними, должно быть солнце. Она пыталась представить себя где-то под ним – в тишине, без запаха его квартиры, без его усталых глаз.
Когда объявили, что самолёт заходит на посадку, она вдруг почувствовала странную лёгкость. Как будто возвращалась не в город, а в себя.
Аэропорт Томска встретил её сухим ветром и запахом керосина.
Она стояла на перроне с чемоданом и думала, что каждый город пахнет по-своему.
Здесь пахло домом, но чужим. Всё вокруг казалось знакомым – такси, вывески, дорога к центру – но ничего уже не принадлежало ей.
Она поймала себя на том, что хочет позвонить Осокину. Просто сказать, что долетела.
Но поняла – не надо. Он не спросит. Он вообще не привык спрашивать. Только слушает, если есть дело. А если нет – молчит.
Она взяла такси, назвала домашний адрес. Машина ехала долго, город за окном двигался серой лентой домов и светофоров. Лиля смотрела на людей у переходов. Кто-то улыбался, кто-то ругался, кто-то тащил пакеты. Все жили. Настоящие.
А она – будто между жизнями.
В квартире все было так, как и до отъезда. Она поставила чемодан, подошла к зеркалу.
В отражении – усталое лицо. Не старое, но с потухшими глазами. И когда она так изменилась?
Она сняла куртку, достала из сумки блокнот. На первой странице – короткая запись, сделанная ещё в Москве:
«Если не уходить вовремя, теряешь себя»
Лиля прочитала несколько раз. Слова казались чужими, но правильными.
Она легла, не включая свет. За окном шумели машины. Где-то гудел поезд.
Она закрыла глаза и подумала: возможно, всё сложилось именно так, как должно было.
Может, иногда нужно просто уйти, чтобы не превратиться в тень.
Перед сном ей вспомнилось, как он однажды сказал: «Некоторые вещи не лечатся.» Тогда она подумала, что речь о чужих судьбах. Теперь поняла – о себе.
Утром Лиля проснулась рано. Открыла окно – в лицо ударил холодный воздух.
На улице летел мелкий дождь, асфальт блестел. Она стояла, пока не замёрзли руки.
Её ждал день без планов. Без дел. Просто день. И, может быть, впервые за долгое время – свой.
Она не знала, куда идти и зачем. Но знала точно – назад пути нет.
Не потому, что гордость. Потому что между ними была всего лишь интрижка. Приятная, ни к чему не обязывающая интрижка.
Она закрыла окно, поставила чемодан в угол. Пошла умываться. В зеркале снова то же лицо, но будто чуть спокойнее.
Лиля подумала, что, возможно, это и есть начало. Без обещаний, без клятв, без Осокина.
Просто новый день, что начинается с внезапного приступа тошноты…
5
Осокин появился в отделе чуть позже обычного – часы показывали половину одиннадцатого. Он шёл по коридору без спешки. Воздух стоял тяжёлый: запах бумаги, дешёвого кофе и прогретой проводки. За окнами непроходящая жара.
На столе у дежурного лежала толстая синяя папка. Дежурный поднял голову, увидел Осокина и коротко кивнул.
– Новое, – сказал он и указал на папку. – С утра принесли.
Осокин взял папку в руки. Картон тёплый от солнца, пластик файла чуть липкий. Он перелистнул первую страницу: «Заявление о пропаже человека». Стандартный бланк, квадратные клетки для даты, подписи, ФИО заявителя. Ниже – крупное имя:





