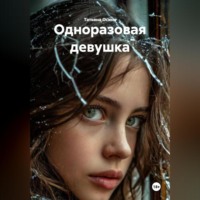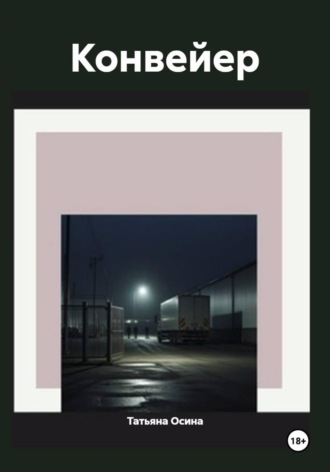
Полная версия
Конвейер

Татьяна Осина
Конвейер
ГЛАВА 1. Несчастный случай
Смена закончилась ровно, как по линейке: ровно в положенное время люди потянулись к проходной, отмечали пропуска молчаливым тычком в турникет, в сером коридоре сдавали выцветшие халаты, пахнущие озоном и металлом, и на улице, не сговариваясь, расходились в разные стороны – каждый в свой короткий вечер, в свой квадрат спального района. В Алексине так и жили: город-спутник, город-тень, режимный, замкнутый в самом себе. После работы люди не задерживались на улице без нужды. Не из страха – из привычки, въевшейся в подкорку, как соль в асфальт. Привычка здесь была второй охраной, не менее надёжной, чем первая.
Ведущий инженер Климов шёл домой пешком, хотя мог бы вызвать такси по служебному талону. Он всегда ходил пешком, потому что только эти двадцать минут пути позволяли по-настоящему «выключить» день. В НИИ «Прометей» день не выключался сам – он лип к голове цифрами, графиками, разговорами “на полтона ниже” официального, и Климов уносил это домой как пыль на куртке, как запах в волосах. Дома он обычно молчал, механически ел то, что приготовила жена, и отвечал на вопросы коротко, будто экономил слова на завтра. «Устал?» – «Устал». «Как там?» – «Нормально». В этом «нормально» умещалось всё, что нельзя было произносить вслух: неуверенность в расчётах, шёпот коллег о новом “усилении режима”, чувство, что стены в кабинете с каждым днем становятся чуть ближе.
В тот вечер жена, Наталья, ждала его с ужином и заранее включённым телевизором – не чтобы смотреть, а чтобы в квартире было живое, пусть и фальшивое, шевеление звука. Тишина в их доме последнее время стала густой, вязкой, её можно было почти потрогать. Климов это чувствовал кожей, но не комментировал: мужчинам в таких городах редко разрешают себе признаться, что им страшно или неловко. Страх не вписывался в пропускной режим, в графу «годен», в сухой язык отчётов.
Он пришёл чуть позже обычного. Не на часы позже – всего на полчаса. Казалось бы, пустяк, но Наталья заметила сразу: не по часам, а по тому, как скрипнула дверь, как он чуть дольше обычного тер ботинки о решётку.
– Что случилось? – спросила она, не отрываясь от нарезки хлеба, но всё внимание сконцентрировав на звуках из прихожей.
– Ничего, – ответил Климов, и его голос прозвучал плоским, как стёклышко. Он снял обувь с привычной, почти ритуальной аккуратностью, поставил ровно. – Вызвали на объектовую. Мелочь. Быстро.
Слово «быстро» он произнёс с каким-то внутренним нажимом, будто этим словом можно было отменить не только вопрос, но и сам факт опоздания. Наталья хотела возразить, спросить “зачем”, “почему в субботу?”, “а завтра ведь выходной?”, но, обернувшись, увидела на его лице то выражение – отрешённое, с каменной маской усталости поверх, – после которого вопросы не задают. Не грубость – запрет. Чужой, служебный запрет, который человек приносит домой и кладёт на полку рядом с ключами, словно опасный предмет.
Климов прошёл на кухню, вымыл руки долго, тщательно, с особым вниманием к ногтям и сгибам пальцев, как будто смывал не городскую грязь, а некий контакт, след. Потом открыл шкафчик, достал стакан – не тот, цветной, а простой гранёный – и налил воды из-под крана. Пил медленно, маленькими глотками, глядя в окно на тёмный квадрат двора. Жена смотрела и думала: он как будто пытается не дышать полной грудью. Или не думать о чём-то конкретном, растворяя мысль в воде.
– Там… опять проверка? – осторожно спросила она, отодвигая тарелку с супом.
– Угу, – сказал Климов, не оборачиваясь. – Ничего особенного. Не волнуйся.
Фраза «не волнуйся» была обычной, домашней, заезженной, но в этот вечер прозвучала не по‑домашнему: слишком ровно, отрепетированно правильно. Как будто её произнесли не для жены, а для протокола, чтобы закрыть тему раз и навсегда.
После ужина он сел на диван, не снимая домашней толстовки, и уставился в экран телевизора. На экране было что-то шумное, юмористическое, смех за кадром звучал натужно и громко. Но он не следил за сюжетом. Его взгляд был пустым и направленным внутрь. Он слушал не передачу – он слушал лестничную клетку, тишину за стеной, редкие шаги на верхнем этаже. Слушал так, как слушают в чужой квартире, затаив дыхание. Наталья заметила это по напряжённой линии его плеч и почувствовала знакомое раздражение, смешанное с тревогой: когда взрослый мужчина сидит и “прислушивается” к миру за дверью, в доме становится тесно всем, воздух словно вытягивается.
– Ты чего? – спросила она уже резче, нарочито громко, чтобы вывести его из этого оцепенения, вернуть в реальность кухни и немытой посуды.
Климов вздрогнул, будто от толчка, и медленно перевёл на неё взгляд, с трудом фокусируясь.
– Ничего, – повторил он заклинание. – Просто… голова. Устал.
Он поднялся, движения его были слегка замедленными, и пошёл в ванную. Наталья услышала, как он закрыл дверь не мягким щелчком, а с явным усилием, как открыл кран. Вода пошла слишком сильной, шумной струёй – обычно он, бережливый, так не делал. Потом шум воды стих, и наступила пауза. Неестественно длинная для обычного “помыть руки” или “умыться”. Пауза, в которой было что-то плотное и нехорошее.
– Игорь? – позвала она, отложив тряпку. Отчества она не использовала, только в моменты крайней серьёзности.
Ответа не было.
Она подошла к двери ванной и постучала костяшками пальцев. Сначала легко, вежливо, потом сильнее.
– Игорь, открой. Что там?
Тишина в ответ была гуще любой темноты.
Она повернула ручку – дверь была заперта изнутри, на маленький замок-кнопку. И в этот момент из-за двери донёсся тихий, мягкий стук, как будто упало свёрнутое полотенце или пластиковый флакон с шампунем. Не громкий, но чёткий. Наталья почувствовала, как холод, тонкой иглой, поднимается от копчика по позвоночнику: если в закрытом городе что-то происходит за закрытой дверью, официальная версия всегда клонится к «сам виноват». Так было проще. Так было безопаснее для всех, кроме одного.
– Открой сейчас же! – крикнула она уже голосом, в котором задрожала паника.
И снова – ничего. Ни звука, ни шороха.
Она метнулась к телефону на кухонной тумбе, дрожащими, непослушными пальцами набрала «112». Голос диспетчера, женский, был спокойным, даже усталым – как у человека, который слышит чужие беды каждый день и уже не удивляется ничему.
– Служба спасения, что случилось?
– Муж… муж в ванной. Не отвечает. Дверь закрыта. Я… я слышала, как что-то упало.
– Он дышит? Вы слышите дыхание?
– Я не знаю! Я не вижу его! – голос её сорвался.
– Спокойно. Слышите звук воды?
Наталья прислушалась, затаив собственное дыхание. Из-за двери не доносилось ни единого звука. Ни капли, ни шипения крана.
– Нет. Тишина.
– Попробуйте дозваться. Сильно постучите. Можете сломать дверь?
Жена оглянулась на кухню, взгляд скользнул по ножам в подставке, по тяжёлому табурету. В голове мелькнуло, автоматически: “сломать дверь” – это уже скандал, это уже шум, это уже вопросы соседей, которые услышат. И тут же, накрывая первую, пришла другая мысль – страшнее и чётче: “если поднимем шум – придут”. Кто придёт? Скорая? Полиция? Или кто-то другой, те самые люди в штатском, которые умеют говорить «быстро» и смотрят так, что хочется отвести глаза?
– Я… я попробую, – выдавила она.
Она ударила плечом в место near замка. Старая, но крепкая дверь даже не дрогнула. Ударила ещё раз, изо всех сил – бесполезно, только боль резко прошла по ключице. Тогда схватила табурет и, отчаянно размахнувшись, ударила деревянными ножками по ручке и замку. Раз, другой… На третьем ударе что-то внутри щёлкнуло, негромко, как будто механизм сдался без особого сопротивления, и дверь распахнулась, ударившись о ограничитель.
Климов лежал на полу у ванны, на плитке в мелкий синий узор. Он лежал на боку, голова чуть набок, щекой прижата к холодному кафелю, одна рука под ней, другая вытянута вдоль тела. Поза была слишком ровной, неестественно аккуратной, словно его уложили, а не он упал. На краю ванны висело полотенце, сложенное аккуратно пополам, не сваленное. Зубная щётка стояла в стакане ровно, как солдат на посту. Мыльница была на своём месте. Никакого хаоса, никакой видимой паники или борьбы. Только человек, который не должен лежать вот так тихо на полу собственной ванной.
– Господи… Игорь… – выдохнула Наталья и рухнула на колени рядом, судорожно хватая его за плечо, тряся. – Игорь, слышишь?! Климов!
Кожа под пальцами была ещё тёплой. Значит, недавно. Ещё недавно он был здесь, живой. Она прижала ухо к его груди, отодвинув толстовку. Сердце… то ли билось, то ли нет – в висках стучало так громко, что ей казалось, будто она слышит собственный страх, а не тишину в его грудной клетке.
Диспетчер в телефоне говорила что-то про непрямой массаж сердца, про то, чтобы положить его на спину, про скорую, которую уже направили, снова спрашивала адрес. Наталья слушала и почти не понимала: слова снаружи, из мира правил и инструкций, не ложились на то, что происходило внутри этой квартиры, внутри этой лопнувшей реальности.
И тогда её взгляд упал на белую раковину. Рядом с краном лежала маленькая пластиковая крышечка – прозрачная, круглая, с тонким ободком. Как от одноразовой ампулы или насадки на шприц. Не их. У них в ванной не было ничего подобного. Она машинально потянулась взять её, но пальцы не слушались, скользили по гладкому пластику, и крышечка упала обратно в раковину с тихим, звенящим стуком.
Скорая приехала быстро, по меркам города, но не так быстро, как хотелось бы в эти растянутые минуты ожидания. Фельдшер, мужчина лет пятидесяти с усталым, обветренным лицом, войдя в квартиру, мельком, профессиональным взглядом окинул обстановку: стол, телевизор, лицо жены – и только потом перевёл глаза на тело. Он работал молча, чётко, как работают люди, видавшие своё: без лишних вопросов, без эмоций. Второй, помоложе, держал сумку и оглядывался на входную дверь, на коридор, будто оценивал, кто ещё может зайти следом или стоит ли ждать кого-то.
– Когда последний раз говорил, был в сознании? – спросил фельдшер, не поднимая головы.
– Минут десять назад… он… он сказал “не волнуйся” и пошёл в ванную… – жена запнулась, и от этого произнесённого вслух “не волнуйся” в горле встал ком.
Фельдшер кивнул, не уточняя, что именно значило это “не волнуйся”, и продолжил делать своё. Потом отступил на шаг, вытер лоб тыльной стороной ладони и произнёс тихо, почти для себя, но так, что она услышала:
– Похоже на внезапную остановку. На фоне стресса, переутомления. Такое, к сожалению, бывает.
«Такое бывает» в Алексине было самой удобной, всеобъемлющей формулой. Под неё уходило всё необъяснимое: травмы на производстве, ночные вызовы в отдел кадров, странные разговоры, обрывающиеся на полуслове, чужие люди на лестничной клетке, которые курят и смотрят в твоё окно.
Через двадцать минут, когда тело уже увезли, а Наталья всё ещё сидела на кухне в оцепенении, в квартире появились двое мужчин: один в форме районного участкового, другой – в аккуратном гражданском костюме, слишком новом для этих мест. Оба говорили тихо, вежливо, почти сочувственно, но их сочувствие было сдержанным, отстранённым, как будто они уже заранее, до начала разговора, знали правильный итог и все необходимые подписи.
– Вы только не волнуйтесь, – сказал тот, что в гражданском, и Наталья вздрогнула, услышав эту роковую, третью за вечер фразу. – Мы всё оформим максимально быстро и без лишней волокиты. Вам нужно будет кое-что подписать для протокола.
Он произнёс «подписать» мягко, обволакивающе, будто подпись – это не формальность, а лекарство, успокоительное. Жена машинально кивнула, потому что в этот момент она была готова согласиться на любой порядок, на любой вариант, лишь бы кто-то взял на себя тяжесть происходящего, взял ответственность. Их вежливая уверенность снова сделала своё дело – как делала его всегда: на проходной, в кабинете начальства, на той самой “объектовой”.
А потом, когда они уже собрались уходить, гражданский вежливо попросил её показать, где именно она нашла мужа. И когда Наталья, ведя их к ванной, приоткрыла дверь, её взгляд скользнул по её внутренней стороне. И она увидела.
Маленькую наклейку. Почти под самой верхней петлёй. Не яркую, блеклую, серо-голубую. Бабочку. С простыми, детскими контурами.
Она моргнула, решив, что это галлюцинация, слёзы, нервное потрясение. Но нет. Бабочка была настоящей. Криво приклеенной, одним уголком отходя от дерева, будто наклеивали в спешке, не глядя. И от этого её затрясло изнутри сильнее, чем от вида тела на кафеле, сильнее, чем от тишины в груди: потому что это означало – в их квартиру заходили. Не они, скорые или эти двое. Другие. Их квартиру отметили. Как документ грифом. Как объект – условным знаком.
Наталья села за кухонный стол, глядя на чашку с недопитым чаем Климова, на его остывшую ложку, и впервые в своей жизни, жизни дочери, жены, жительницы благоустроенного города, подумала с кристальной, леденящей ясностью: “Я не знаю, кому теперь можно открыть дверь. И можно ли её вообще когда-нибудь открывать”.
ГЛАВА 2. МОРГ
Коридор, ведущий к судебно-медицинскому моргу, был выложен кафелем цвета выбеленной кости. Он был слишком чистым, слишком ровным, слишком безликим – специально спроектированным, чтобы взгляд не цеплялся ни за что, а мысль, лишённая опоры, скользила в пустоту. Пол гасил шаги, флуоресцентные лампы гудели на частоте, вызывающей смутную тошноту. Василий Казанцев шёл без видимой спешки, но внутри у него всё двигалось с лихорадочной скоростью. Пятнадцать мешков. Пятнадцать тел. И город, который с утра возмущался из-за перекрытой ради них улицы, а к вечеру уже снизил голос до щемящего, испуганного шёпота.
У двери с табличкой «Экспертная. Служебное помещение» он замер на мгновение – не из суеверия, а по профессиональному ритуалу: сделать вдох, оставить мир снаружи. Здесь действовали другие законы.
Воздух внутри был другим: стерильно-холодным, с металлическим привкусом озона и сладковатым, едва уловимым фоном, который никогда не озвучивали, но всегда узнавали. За стеклянной перегородкой дежурки мелькнула тень в синем халате, и дверь открылась почти мгновенно – как в месте, где все уже знают, зачем ты пришёл, и бессмысленно делать вид, что это просто рядовой визит.
– Казанцев? – спросил мужчина в хирургической маске и очках. Голос был ровным, без интонации. Не вопрос, а сверка данных. – Проходите. Я Серебряков, старший патологоанатом.
Серебряков был из породы тех, кто давно перестал пытаться «смягчать» реальность. Его движения были экономны, точны, дистанция, которую он держал, была не высокомерием, а необходимым буфером между миром живых и его работой. Казанцев молча кивнул, показал удостоверение – жест ритуальный, как крестное знамение, – и его взгляд упал на другого человека в комнате. Тот стоял у стола с разложенными в идеальном порядке доказательственными пакетами и лотками. Мужчина в тёмно-сером кашемировом свитере, без халата, с блокнотом Moleskine в тонких, длинных пальцах.
– Это Мельников, – представил Серебряков, слегка кивнув в его сторону. – Наш ведущий эксперт-криминалист по материальным следам и упаковке. Прикомандирован из центрального аппарата СК. Специально.
Мельников поднял голову. Его взгляд был не оценивающим, а сканирующим, будто он видел не человека, а совокупность возможных следов: ворсинки на ткани, микрочастицы на подошвах. Он кивнул один раз, коротко и чётко – не как приветствие, а как подтверждение факта своего присутствия в протоколе.
Осмотр. Факты и тени
Серебряков провёл Казанцева в основной зал. Здесь свет был безжалостным и всеобъемлющим, он не давал теням спрятаться, выворачивал всё наружу. Пятнадцать чёрных полиэтиленовых мешков для трупов лежали на мобильных стеллажах в идеальных параллельных рядах. Системность этого зрелища была страшнее хаоса. Хаос можно списать на эмоцию, на аффект. Порядок же говорил о методичности, о холодном, выверенном процессе.
Серебряков не тратил время на предисловия. Он начал с сухого языка фактов, своего родного диалеккта.
– Все жертвы – женщины. Возрастной разброс от двадцати пяти до, ориентировочно, сорока пяти. Но тип – повторяется. И вот важная деталь, – он сделал паузу, подбирая точное слово. – Физический тип: в большинстве своём, они не худые. Не в клиническом смысле, но… плотного, пикнического сложения. Сбитые. Тяжёлые. Перенести такую ношу в одиночку, особенно на расстояние, через технические люки или рельеф, – крайне неудобно. Это означает одно из трёх: у него есть помощник, специальное приспособление (тележка, носилки), или он мастерски использует существующую инфраструктуру – лифты, пандусы, транспортеры, – где вес становится не проблемой, а просто параметром.
Казанцев перевёл взгляд с безмолвных мешков на руки патологоанатома. У того были длинные, удивительно тонкие пальцы пианиста или хирурга. Сейчас они спокойно лежали на краю стола, но в их неподвижности читалась уверенность человека, который уже собрал пазл в уме и теперь лишь указывает на ключевые фрагменты.
– Травмы? Следы насилия? – спросил Казанцев.
– Явных, грубых признаков борьбы – минимум, – ответил Серебряков. – Это не означает, что её не было. Это означает, что её могло и не быть. И это, понимаете, тревожнее всего. Когда жертва не оказывает сопротивления не потому, что не хочет, а потому, что не может. Физиологически не может.
Он позволил тишине впитать смысл сказанного, а затем продолжил, обращаясь уже к Мельникову:
– Есть косвенные, но красноречивые признаки возможного медикаментозного воздействия. Быстродействующее седативное, миорелаксант. Пока это лишь гипотеза, основанная на отсутствии ожидаемых микрогематом в зонах возможного захвата, неестественной расслабленности мышечных групп. Токсикология в работе. Но если это так… – Он снова посмотрел на Казанцева. – …то это меняет профиль. Это не импульсивный душитель в подворотне. Это технолог.
Находка. Пыль из раковины
Мельников, словно дождавшись своей очереди, бесшумно подошёл к микроскопу, рядом с которым лежали несколько запаянных пакетов-сейфов с мелкими вещественными доказательствами. Он вскрыл один стерильным скальпелем и вытряхнул содержимое на лист чистейшей фильтровальной бумаги.
– Обратите внимание, – его голос был тихим, но отчётливым, как шелест страницы. – Это собрано со складок внутренней поверхности мешков, из углов, из швов одежды жертв.
На белоснежной поверхности рассыпалось нечто, напоминающее бледно-бежевую пыль, местами собранную в микроскопические крошки. Не земля, не песок, не строительная пыль.
– Предварительный анализ под микроскопом, – продолжил Мельников, – показывает слоистую, известковую структуру. Очень напоминает перемолотую до состояния мелкой фракции яичную скорлупу. Или… скорлупу моллюсков.
– Скорлупу? – переспросил Казанцев, чувствуя, как в привычную мрачную логику убийства вклинивается абсурдная, тревожная деталь.
– Точнее, карбонат кальция в специфической форме. Его часто используют как минеральную подкормку в террариумистике. Для улиток, например. Чтобы те укрепляли свои раковины, – пояснил Мельников, его лицо оставалось непроницаемым. – Хобби. Домашние террариумы, фермы для экзотических видов. Можно купить готовую смесь, а можно молоть скорлупу самостоятельно. Здесь помол очень тонкий, почти пудра. Пока не гарантия, но… вектор.
Серебряков, наблюдавший за реакцией Казанцева, кивнул.
– И эта деталь странно резонирует с общей… средой дела. Коллектор, труба, сырость, темнота. Улитки – существа влаголюбивые. Как и бабочки, кстати, не живут в сухости. Это может быть случайным бытовым следом, но, – он сделал многозначительную паузу, – именно бытовые, личные, интимные следы чаще всего и ловят тех, кто считает себя чистым технологом, вышедшим из-под контроля обыденности.
Появление Алисы
Дверь в зал открылась без стука. На пороге появилась женщина. Она не входила – возникала, словно из другого измерения. На ней было длинное пальто цвета тёмного шоколада, наброшенное на плечи, а не надетое. Она держала полы, чтобы они не касались ничего вокруг, и в этом жесте была не брезгливость, а абсолютная концентрация на границе своего пространства. Ей было около сорока, черты лица – чёткие, почти строгие, без намёка на косметику. Усталость в её глазах была не физической, а той, что накапливается от постоянного созерцания бездн человеческой психики. И при этом – абсолютная, стальная собранность.
– Алиса Игнатова, – представилась она. Голос был низким, ровным, без социальных мелодий. – Врач-психиатр, криминальный профилировщик. Меня попросили присоединиться к консилиуму.
Серебряков, кажется, был единственным, кого её появление не удивило.
– В самый раз, Алиса Викторовна. Мы как раз подошли к точке, где биологические факты начинают проситься стать чертами психологического портрета.
Игнатова приблизилась не к столам с телами, а к столу с уликами. Её внимание привлекли не сами мешки, а их расположение, одинаковость упаковки, повторяющийся способ складывания и перевязки. Она изучала не ужас, а почерк.
– Серийность здесь, – заговорила она, медленно обводя взглядом ряды, – проявляется не в количестве, а в дисциплине. Это не вспышки голода. Это ритуал. Он отбирает определённый физический тип, потому что это часть технологии. Одинаковый «материал» ведёт себя предсказуемо. Один сценарий похищения, один метод контроля, один набор решений для возможных проблем. И если гипотеза о седативных препаратах верна, – она посмотрела на Серебрякова, – то для него критически важен не аффект преодоления, а абсолютный, беспроблемный контроль. Драма ему не нужна. Нужен чистый процесс.
Казанцев, слушая её, почувствовал, как разрозненные факты начинают притягиваться друг к другу.
– Место исчезновения, связующее звено – пригородная электричка, – сказал он. – Все жертвы ею пользовались в день исчезновения.
На лице Игнатовой не появилось улыбки, но уголки глаз чуть смягчились – признак профессионального интереса.
– Транспортные узлы – идеальный охотничий заповедник для такого типа, – отозвалась она. – Постоянный, анонимный поток. Фоновый шум, заглушающий крик. Главное – социальная аура невмешательства и множество служебных, технических, не предназначенных для пассажиров зон. Человек в униформе или просто с уверенным видом человека «при делах» получает в таких местах карт-бланш. Он может быть железнодорожником. А может лишь искусно играть эту роль. В любом случае, он тяготеет к пространствам, где его право находиться и что-то делать не подвергается сомнению.
Серебряков, будто ставя точку в общем выводе, добавил:
– Если использовались быстродействующие препараты, значит, контакт был предельно коротким. Не уговоры, не долгое преследование. Нечто вроде… профессиональной манипуляции. То, что превращает субъекта в объект за считанные секунды.
Взгляд Игнатовой задержался на бледной пыли на фильтровальной бумаге.
– Улитки… – произнесла она задумчиво. – Это очень важно. Хобби, особенно такое специфическое, часто выдаёт внутренний мир человека ярче, чем его работа. Работа – это маска, социальная функция. А хобби – это приватная территория души. И если его работа связана с железной дорогой, с её строгими графиками и униформой, то террариум с улитками… это его приватный, контролируемый мирок. Мирок, где он – бог.
Казанцев ощутил в голове щелчок. Хаос фактов выстроился в первую, зыбкую, но уже видимую линию.
– Итак, резюмирую, – сказал он, обращаясь ко всем троим, но глядя на Мельникова. – По кальциевой крошке – углублённая экспертиза: источник, специфика помола, возможные маркеры. Мешки – партия, поставщик, любые серийные номера или производственные дефекты. По фармакологии – все силы токсикологам. Ищем не просто вещество, ищем источник, возможный профессиональный или полупрофессиональный доступ.
Серебряков кивнул.
– Предварительное заключение будет у вас сегодня. Но, Казанцев, – он посмотрел на следователя поверх очков, – если это действительно препарат, и он применялся так эффективно… это не кухонное экспериментаторство. Это знание. Навык. Возможно, медицинский или ветеринарный.
Алиса Игнатова надела тонкие латексные перчатки, будто собираясь прикоснуться не к предметам, а к самой мысли, отлитой в пластике и ткани.
– И ещё одна вещь, Василий, – сказала она, впервые обращаясь к нему по имени. – Когда вы найдёте первого живого свидетеля, который видел «того, кто помогал» на платформе… не давите на описание лица. Такие люди часто не запоминают черт. Они запоминают ощущение: уверенность, спокойная компетентность, «служебность». Право находиться там, где другим нельзя. Его нужно ловить не по фотографии, а по роли, которую он играет в этом театре. По тому, как он заполняет пространство.