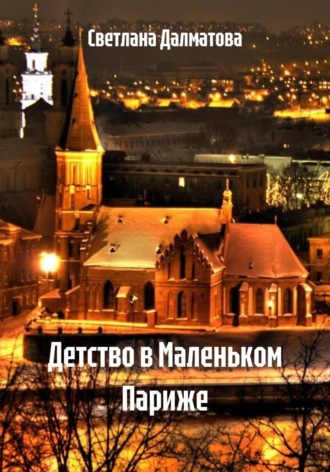
Полная версия
Детство в Маленьком Париже
Глава 2
Уроки взросления
Домашнее воспитаниеВ седьмом классе я ходила в школу во вторую смену, а брат, который был на два года старше меня – в первую. Брат посещал кружки по химии и физике, был очень активным учеником. Вечно куда-то спешащий, худенький, лопоухий паренек в коротковатых брюках, которые не успевали удлинять из-за скорости его визуального взросления. Он излучал мощную энергетику, и был надеждой влюбленного в него преподавательского состава. Мама, проработавшая к тому времени немало лет в школе, не припоминала, чтоб учителя так любили своего ученика, как моего брата.
Он был лучшим учеником по всем точным предметам, участвовал в олимпиадах, и, как правило, занимал первые места. Его успехами, в отличие от моих, мама очень даже интересовалась. Сочинения брата мама проверяла очень внимательно, частенько забраковывала, вынося жестокий вердикт.
– Никуда не годится, – произносила она спокойно и перечеркивала красным карандашом из угла в угол страницы сочинения.
Реакция брата была очень бурной, он грозился уйти из дома, и действительно – убегал раздетым на улицу, громко стукнув дверью.
Я волновалась.
– Ничего, проветрится и вернется, что я своего сына не знаю! – успокаивала меня мама.
Мама брата очень чувствовала, да и понимала лучше, чем он сам себя. Они всегда в моей душе ассоциировались одним целым, мать и брат. Они были похожи и внешне: глаза, губы, волосы; целыми днями могли лежать и читать, до меня доносился лишь шелест прочитанных страниц. Беглое чтение, я его так и не освоила. Я читала очень внимательно, вдумываясь в прочитанное. После прочтения книги я могла ее пересказать очень близко к тексту, даже назвать номер страницы, на которых написан данный текст. Я не любила "проглатывать"книгу одну за другой.
Ведь книга пишется долго, значит, и читать ее быстро, "взапой", не правильно, – рассуждала я.
В эти годы я любила мечтать, ночью, перед сном.
Брат же засыпал, только коснувшись головой подушки, аккумулируя энергию на следующий день.
– Разве ты никогда не мечтаешь? – с удивлением интересовалась я.
– А зачем? – следовал ответ.
Я была другой, но воспринимала это спокойно.
По прошествии лет, в каком-то случайном разговоре, мама рассказала о глупом вопросе, который ей задала коллега в учительской.
– А кого вы больше любите, – спросила она, – дочку или сына?
– У меня же одна дочь и один сын, как я могу кого-то больше любить? – удивилась мама.
Мои сочинения мама просматривала бегло, вставляла красным карандашом пару запятых, автоматически констатируя синтаксическую ошибку.
– Хорошо, – произносила она короткое и бесцветное в ее устах слово.
Мама никогда нас не хвалила, но и не ругала. Она относилась к нашим с братом успехам и мелким, по ее мнению, неудачам спокойно. Думаю, как опытный педагог, она видела, что нам можно доверять, и не особенно выражала беспокойство.
Мои поэтические потуги ее тоже не приводили в восхищение и в родительский трепет, хотя, стихи я посвящала именно ей, по случаю и без. Я никогда не слышала ее похвалы, разве, что:
– Как это у тебя выходит? Меня запри без еды и без воды, я все равно не сочиню ни строчки, – удивлялась мама.
Надо отметить, что и забракованные ею наши с братом сочинения мама никогда не помогала заново писать, нет, мы сами их переделывали.
В своей школе, где мама преподавала, больше внимания она уделяла мальчикам, и их симпатии были взаимными.
Одно не могу понять, как она чувствовала мои двойки, интуиция? Или все было проще – ей тут же звонили мои доброжелательные учительницы?
Только я успевала переступить порог квартиры, как из кухни раздавался мамин звонкий голос:
– Ты получила двойку?
Отрицать не имело смысла. Ведь я иногда просто отказывалась выйти к доске. Я точно, как мне казалось, рассчитывала, когда меня должны вызвать к доске и за перерыв между уроками успевала прочесть тему заданного урока, а кратковременная память работала отлично. Но случался сбой, когда несколько вызванных для ответа учеников не подготовились, тогда гадкие двоечники требовали вызвать к доске меня. Я никогда не признавалась, что сама не выучила урок, просто отказывалась каждый день выходить к доске под предлогом несправедливости.
В маме явно текла цыганская кровь, она и была похожа на красивую цыганку. Мама хорошо гадала, только не мне, отмахиваясь от моих просьб:
– Что тебе гадать, когда я и так все про тебя знаю.
Недавно я узнала, что дочери гадать нельзя.
Мама родилась в Хмельнике, на Украине, и в детстве очень любила бывать в цыганском таборе, который располагался недалеко от их дома. Она помнила слова старой цыганки:
– Не верь никому, ты – наша.
Скрыть ничего от мамы я не могла, но и сама ее лишний раз расстраивать не хотела. Поэтому в седьмом классе, когда у меня еще был дневник, я его маме не показывала, а когда требовалась ее подпись, просто расписывалась за нее. У нее была очень простая подпись, и я до сих пор ею пользуюсь. Так я и унаследовала от мамы подпись, да еще тембр ее голоса, не так уж много из того богатства, которым одарила ее природа.
В седьмом же классе у меня вообще, как мне сейчас кажется, не было проблем, забот, и я наслаждалась свободой, так как моя учеба во вторую смену, когда мама была на работе, не могла быть проконтролирована.
С утра, вместо домашних уроков, я садилась на велосипед, заезжала за Танюшей, и мы вдвоем колесили по Дубовой роще.
Мама Танюши не очень привечала меня, она чувствовала какую-то угрозу с моей стороны для ее скромной, любящей маленьких детей, дочери. Думаю, она была права, особенно в отношении маленьких детей – они меня не занимали. Прогуливала я уроки по-крупному: на полгода набралось бы прогулов. И сама писала справки от имени мамы.
– Надо же, такая способная девочка, и такая болезненная,– жалели меня учителя.
Но так как училась я очень хорошо, в прогулах меня видно заподозрить было сложно.
А причина моих постоянных прогулов была одна – я не любила школу, мне было в школе неинтересно.
Брату повезло больше: в его классе преподавали самые лучшие в школе учителя по физике, химии и математике. Брат закончил школу с золотой медалью и все годы, которые просуществовала десятая средняя школа, его фото, как лучшего выпускника, украшало доску почета. Он был гордостью школы. А кем была я? – Прогульщицей, причем – злостной.
Я никогда не произносила: не знаю.
– Она придумывает свои правила правописания в русском языке, – жаловалась моей маме учительница русского языка в седьмом классе, – да, еще с таким гордым видом, словно это она учительница, а я – ученица, – продолжала возмущаться учительница, внешность которой я совсем не запомнила.
БиологНе знаю, как насчет математиков и физиков, но будущих биологов в нашем классе точно не было. Что творилось на уроках биологии, даже трудно дать определение, короче – бардак: кто спал, кто рисовал, кто болтал. В классе стоял ровный гул.
– Ну, что, писарчучки, – тыкал указкой в нас с Танюшкой преподаватель биологии Тихон Харитонович – высокий, мешковато одетый, нелепый, и очень добрый старый учитель. Мы к нему очень хорошо относились, что не мешало нам безумствовать на его уроках. Правда, иногда даже он не выдерживал и выгонял нас с Танюшкой из класса. Это бывало, когда на нас находил безостановочный гомерический хохот. Сзади, за нашей партой, сидели два хохмоча и специально к уроку биологии припасали для нас сюрпризы: высокий, крепкий Осипов – дохленькую ромашку – для меня, маленький, хрупкий, лопоухий Киреев – крупную хризантему – для Танюшки. Во время урока они просили нас обернуться и торжественно, без тени улыбки, преподносили нам цветочки. Один вид этих двух оболтусов вызывал смех, и остановиться мы уже не могли. Им даже замечание не делали, а нас с Танюшкой выгоняли из класса. За дверью было не смешно, и мы сразу возвращались.Так повторялось за урок несколько раз.
– Ну, что смехочучки,– беззлобно говорил Тихон Харитонович, – давайте ваши дневничучки. Дневники мы всегда, якобы, забывали, зная, что нам все сойдет с рук.
Мама эту ситуацию понимала, у нас с ней, когда мы ловили смешинку, была даже такая игра: мы брали любую книгу или газету, кто-то из нас называл страницу и строку, другой – зачитывал, и начиналась веселуха.
– Все,– через какое-то время всегда первой сдавалась мама, – больше не могу смеяться, живот болит. Давай спать.
Мы замолкали, но через минуту она добавляла:
– Спокойной ночи, спи до полночи, а после полночи да вытаращи очи.
И наш хохот повторялся.
Зимние каникулыВ седьмом классе, на зимние каникулы, мама повезла своих учеников старших классов на экскурсию в Ленинград, по договоренности между двумя школами: Каунасской и Ленинградской. Я пошла ее провожать на вокзал. Перед самой посадкой в поезд выяснилось, что один из учеников заболел, и мама предложила мне поехать вместо него. Так кто-то из ребят, кому в этот момент было совсем не до поездки, осчастливил меня. Я, как была в мамином старом платьице под зимнем пальто, так и поехала в Ленинград, без вещей и нарядов. В Каунасе климат мягкий и нет такой влажности и ветров, как в Ленинграде, и молодежь обходилась без головных уборов, но школьники были предупреждены, что шапки необходимы. Двое мальчишек требование нарушили, и мама даже хотела отправить их домой, но те отбились, продемонстрировав большие шерстяные шарфы. Так они потом и ходили по Ленинграду, обернув шарфом свои петушиные шеи, подняв худенькие плечи и утопив в шарф непослушные ершистые головы. Ведь зима в тот год была снежная, морозная и при такой влажности – больно кусачая.
Я ждала новогоднюю сказку и ее получила. Разместили нас в школьном спортзале, спали мы на матах. Программу посещения музеев и театров заранее согласовывали со всеми ребятами. Ребята через полгода получали аттестат зрелости, это были их последние школьные каникулы и они имели право выбирать, куда ходить и что смотреть, так считала мама и полностью им доверяла. В музеи все ходили сообща, а в театр – кто куда хотел. Мы с мамой, кроме музеев, по два раза в день ходили в театр: утром и вечером. Я с раннего детства мечтала стать актрисой и запомнила каждый нами виденный спектакль. А попала в мир волшебства преображения, в мир моей мечты, он меня завораживал, наполнял душу желанием творить, придавал остроту ощущениям, и наполнял счастьем бытия каждое мгновенье нашего новогоднего пребывания в Ленинграде. Счастье – здесь и сейчас, разве не ради этого мы живем? Каждый прожитый день был наполнен наслаждением от созерцания подлинного искусства: архитектуры, живописи и скульптуры самого прекрасного, и я в этом была уверена, из всех городов, и, конечно же, мастерства перевоплощения актеров БДТ, ТЮЗА, театра комедии имени Акимова, театра имени Комиссаржевской, театра Ленсовета, театра Ленинского Комсомола. А случайная встреча нами артистов на улице и в метро возносила меня прямо к музам на Парнас. Мама принарядила меня в одно из своих маленьких черных платьев. И я, тринадцатилетняя худенькая девчонка с длинными руками и ногами, с косой , заплетенной от затылка, смотрелась очень нелепо в ажурном гипюровом платье на атласной подкладке, гораздо ниже колен.
Но зима – есть зима, особенно в промозглом ветреном Ленинграде. Несколько девочек заболели, они лежали на матах сопливые, с обложенными простудой губами и представляли собой душераздирающую картину. А мама ходила между ними, как в лазарете, ставила градусники, проверяла температуру и раздавала таблетки. Я даже не простудилась, ведь невозможно заболеть, когда ты не ходишь, а летаешь от счастья, когда твои глаза округлились от восторга, а мозги просто зашкаливают от эмоций!
Мама наслаждалась нашим пребыванием в Ленинграде, как и я. Мы с ней были почти одним целым. Говорю почти, так как не обошлось без курьеза. Мама очень любила оперу и повела меня в Кировский театр на оперу "Демон".
Партию Демона исполнял очень тучный, очень старый и очень народный певец. Прожектор высвечивал его тучную фигуру, которая как бы парила высоко на облаках. Мне было скучновато и я задремала, опершись на низкий подлокотник крайнего в ряду кресла, и свалилась с грохотом в проход. На меня стали оглядываться, мама была в ужасе.
– Надежда, ты меня позоришь, – растерянно произнесла она.
– Не ругайте девочку,– заступилась за меня мамина соседка, – ей рано еще слушать оперу.
Женщина была совершенно права, оперу я оценила и полюбила только по истечении многих лет.
Серьезная музыка, как и хоровое церковное пение вошли в мою жизнь гораздо позже. Всему свое время – аксиома жизни и смерти.
ЛитературавичкаПоля, Полиночка, Полина – одно только имя уже ласкало слух, оно очень подходило этой милой симпатичной женщине, лет чуть за сорок.
Полина Антоновна была очень похожа на актрису Володину: невысокая, женственная, с округлыми формами, с детскими ручками и ножками, созерцание которых вызывало нежность и умиление.
У Полины Антоновны был легкий характер, и ко мне она относилась очень хорошо. Вспоминая о ней, меня мучают угрызения совести человека, на которого возлагали большие надежды, и которые он не оправдал исключительно из-за лени.
Она была добрым человеком, без особенных амбиций. Это я была наглой и самоуверенной тринадцатилетней девчонкой. В этом возрасте мы слишком много о себе воображаем, но так мало собой представляем.
Но, видимо, Полина Антоновна доверяла мне, раз частенько просила заменить ее на уроках русского языка и литературы в четвертом и пятом классах.
В четвертом классе я замещала ее с удовольствием, в пятом – с ужасом. Я поражалась, до какой степени разница в один год меняла характер и поведение детей. В четвертом классе за партами сидели маленькие зайчата и щенята. В пятом же классе среди них были маленькие хищники, проходя мимо которых, можно было услышать в свой адрес неприличное замечание, или даже интимное предложение:
– Ничего ножки, как бы их раз....
На перемене я боялась остаться с этими детками наедине. Они могли загнать девчонку в угол, и дать волю своим бесстыдным рукам. До сих пор с содроганием и отвращением вспоминаю одного мелкого, скользкого, рыжего хулигана.
В четвертом же классе эти зайчики, подпрыгивая с места, тянули руки для ответа на мой вопрос по программе. Дети в моем присутствии всегда вели себя очень тихо. Даже завуч школы, будучи в курсе, что я, ученица восьмого, девятого или десятого класса, замещаю учительницу, частенько в недоумении заглядывала в класс – уж больно тихо было, а вдруг я их всех отпустила погулять?
Секрет моих преподавательских успехов был прост, я предлагала ученикам сделку: если они успевают мне ответить за пол-урока на вопросы по программе, все оставшееся время я рассказываю им интересные истории. Вот уж где разыгрывалась моя фантазия.
И это всегда срабатывало.
В своем классе я тоже умела завладеть вниманием ребят, когда Полина Антоновна, опять же просила заменить ее на уроке литературы, тут уж приходилось поработать, читая стихи весь урок.
Как я опростоволосиласьС восьмого по десятый класс я посещала театральный кружок под руководством Полины Антоновны, мы репетировали "Грозу"Островского.
Я так и не поняла, собиралась ли Полина Антоновна действительно поставить на сцене спектакль, так как три года подряд мы репетировали одни и те же сцены. Я играла Катерину, менялись только Тихоны. За это время я так вжилась в роль несчастной Катерины, что мне уже тогда было ясно: счастья в личной жизни мне никогда не видать.
Первым Тихоном был ученик десятого класса – высокий красавец, считающий себя прирожденным актером, и уже тогда страшно гордый одним только своим предназначением. Когда, по ходу роли, он меня обнимал, я уходила в нирвану и не могла произнести ни слова.
– Это же так просто, – негромко произносила Полина Антоновна, всплеснув пухлыми ручками.
И демонстрировала на собственном примере сценку, подходя к мальчику, который нежно, по-сыновьи чуть касался ее плеч своими теплыми руками.
Мы повторяли сцену со мной, но с тем же результатом.
Будущий артист взирал на меня свысока и видел …только себя в роли Тихона.
Я смущалась совсем не потому, что он мне нравился, я смущалась из-за природной застенчивости, но эта моя черта почему-то редко проявлялась.
После школы мой первый Тихон поступил в Театральный институт в каком-то заштатном городке, название которого я не запомнила. Впрочем, городок вряд ли был столь маленьким.
Только позже, когда Тихоны стали меняться, я поняла, что просто вхожу в роль, и влюбляюсь в каждого нового Тихона только потому, что он Тихон, а я Катерина.
В девятом классе у меня было сразу два Тихона, оба – младше меня на год. Здесь уже приоритеты изменились, для них примадонной была я.
Как – то зимой, морозным и снежным воскресным вечером, послала меня мама за продуктами в магазин. Я только помыла голову, и, не долго думая, завернула свои длинные, до колен, волосы в узел и, не закалывая, втиснула все это богатство в плотную шапку, накинула зимнее старенькое пальтишко, и выбежала на улицу. Было ветрено и очень скользко.
На обратном пути из магазина, я вдруг увидела чинно шествующих навстречу мне двух Тихонов с девчонками. У меня промелькнула мысль перейти на другую сторону улицы, но время было упущено, тогда, гордо вскинув голову, как подобает примадонне, я решила быстро продефилировать мимо них. Но, подскользнувшись на льдинке, я начала падать.
Мне показалась, что падала я очень долго: в начале с головы соскочила шапка, и копна длинных густых волос накрыла меня покрывалом, обе руки, вместе с авоськами, взметнулись вверх, я сделала быстрый вздох, и, словно подстреленная птица, рухнула на лед, запорошенный снегом. И вместе со мной рухнули отпущенные авоськи. Оба Тихона, обуреваемые благородным чувством спасения своей примадонны, бросились ко мне на помощь. Один Тихон пытался меня поднять, но за волосами я ничего не видела. Второй Тихон спешил собрать продукты. Так я во всех смыслах опростоволосилась перед своими рыцарями.
Впрочем, и все другие мои начинания ничем хорошим для меня не заканчивались.
– А столько было талантов,– говорила обо мне с иронией мама, называя "артисткой погорелого театра".
Самое сладкое чувство во мне вызывает первая и последняя современная пьеса, которую я держала в руках – "Сотворение мира". Эту шуточную пьесу, наполненную легким, воздушным юмором, готовили к постановке в Школе милиции. Мне предложили роль Евы. Я считала, что мне больше подходят драматические роли, но и роль этой легкомысленной прародительницы мне нравилась. Роль Адама играл высокий, прыщавый курсант – кандидат в милиционеры. Роль Евы, в конечном итоге, сыграла не я, а малосимпатичная моя дублерша. Я же окончила школу и уехала поступать в институт в Ленинград. В первый же год учебы, приехав на каникулы в Каунас, я встретила на центральной улице свою дублершу Евы, она в красках описала премьеру пьесы, аншлаг и свой триумф в костюме Евы.
Жаль, что я не сыграла эту милую роль, так как легкости и наивности, якобы свойственных самой первой женщине, мне не хватало всю жизнь, а вот роль Катерины только отяготила мое будущее.
Крах карьерыВ восьмом классе меня даже выбрали комсоргом, но начать надо с того, что когда мы после летних каникул пришли в школу, оказалось, что организовали дополнительный 8Г класс, так что из класса 7Б кого-то перевели в 8Б, а кого-то в 8В или даже в 8Г, где оказалась и я. И большинство хороших учеников из вполне благополучных семей остались в классе 8Б. Думаю, что на процесс перевода повлияли родители хороших учеников, которые выбрали проверенных временем преподавателей класса 8Б, и настояли на этом, ведь два последних школьных года решали дальнейшую судьбу учеников, готовящихся к поступлению в ВУЗ. Ну, а я, отучившись всего год в этой школе, не имела право выбора. Так что лишь недавно образованный класс 8Г уже считался неблагополучным.
А моя карьера комсомольского вожака или руководителя ячейки, продлилась недолго.
Я была с треском выгнана из занимаемой должности из-за коллективного побега учеников с уроков. Коллективизма во мне никогда не было. Мама справедливо называла меня "дикаркой". Никогда бы я не одобрила коллективный срыв уроков. Понимая всю глупость совершаемого, я не могла уже предотвратить побег, так как слишком поздно о нем узнала.
Я сама отсутствовала на предыдущем уроке, явно прогуливая, а когда вернулась в школу, то застала в раздевалке последнего беглеца, который в спешке запутался в рукавах собственного пальто и отстал от основной преступной группы. Я была в ужасе, предвидя все дальнейшее разбирательство и всю степень ответственности, которая ляжет именно на меня за содеянное, но остаться не могла, это было бы предательством, пришлось присоединиться к беглецам.
Естественно, наказание последовало незамедлительно: я была приговорена, распята, опозорена, выгнана с треском из комсоргов. Завучем было проведено целое расследование ЧП: допросы каждого ученика, разоблачительные собрания. Мы были в трауре, не ели, не пили, ходили серые.
Учительница, кажется химии, которая преподавала в классе брата, и боготворила его, выступая на собрании с надрывом в голосе, устремив свой остроконечный палец в мою сторону, буквально пригвоздила меня к позорному столбу:
– Да, в семье не без урода, – кричала она, метая молнии в меня, стоящую перед ней навытяжку,– такой брат, и вот, такая сестра, которая только позорит его!
Все это наблюдал и слушал, сидя за партами, мой легкомысленный класс.
Мама не разделяла моего переживания и относилась к случившемуся спокойно.
– Было и было, стоит ли так переживать, – только и сказала она, впрочем, добавив, – бегали с уроков ученики и будут бегать, на то они и дети.
Но видя, что я даже перестала есть, положила этому конец:
– Мне бы твои годы, нашла о чем переживать, живи и радуйся!
Глава 2 Уроки взросления
ШколаВ седьмом классе я ходила в школу во вторую смену, а брат, который был на два года старше меня – в первую. Брат п
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.







