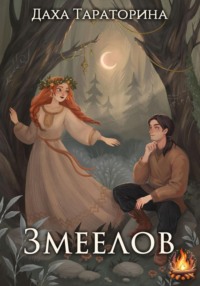Полная версия
Змеелов
Отчего же нынче нет того теплого чувства в груди? Отчего не тянет обнять подруженьку и всплакнуть, как тогда? Нет, нынче Ирга, если бы и обняла Звенигласку, придушила бы на месте. А потому и обнимать не спешила.
– Пойдем, что ли. Скоро стемнеет.
И то верно, до заката надобно подготовить к празднику не только дом, но и себя. Василю-то хорошо, он еще до полудня управился с делами, а после, как всякий деревенский мужик, считал мух. Ибо кто ж в праздник трудится? В праздник заботиться о душе надобно, а не о мирском хлопотать. Другое дело бабы. У них работы – тьфу! Занавески постирать, убрать, сготовить, дом украсить, двор подмести, скотину покормить, подоить, выгнать и загнать, а после подоить еще раз. Ну так разве это работа? Так, смех один. Потому Василь успел после обеда навестить Костыля и с другом вместе попариться в хорошей горячей баньке.
У Ирги же подруг, к которым можно было бы напроситься, не водилось, Звенигласке до родов повитуха баню строго-настрого запретила, а для себя одной топить – убыток. Вот и ждала Ирга, пока нагреется котелок над уличным очажком, чтобы по-быстрому ополоснуться, подготовить к торжеству не только дух, но и изнуренное праздником тело.
Погляди кто на девок издали, только похвалил бы: и работа у них спорится, и домашние хлопоты делят поровну, и друг дружку не обижают. Вот и во двор вышли каждая со своим делом: Звенигласка несла ковши да тряпки, Ирга же, натянув рукав на ладонь, взялась за котелок.
– Давай я! – потянулась ятрова.
– Еще тебе что дать? Не тронь тяжесть.
Без вины виноватая, Звенигласка плотно сомкнула губы, а у самой глаза на мокром месте. Когда же девки вошли в предбанник и скинули одежу, ее, видно, тоже одолели воспоминания.
– Ирга, – позвала найденка.
Та как раз смешивала горячую воду с холодной и, отвлекшись, едва не ошпарилась. Зыркнула зверем:
– Ну чего тебе?!
Звенигласка оплела руками беззащитный живот: всего больше стремилась от дурного взгляда защитить дите.
– Отчего злишься на меня?
Спросила тоже! Кабы Ирга сама знала, давно бы обиду отпустила! Но обиды ведь и не было. Всем Звенигласка хороша: тиха, скромна, заботлива. А Василька любила – страх! К концу зимы, помнится, брат провалился под лед и захворал, так женушка от него ни на шаг не отходила, ночей не спала, все следила, не кашлянет ли лишний раз. А тот и рад! Знай стонал да указания к похоронам раздавал. У Ирги с ним разговор короткий: залила б в глотку большую чашку горечь-травы да печь растопила докрасна. Все в Гадючьем Яре так лечились, и никто еще не жаловался. А кто жаловался, тому вторую чашку вара готовили. Но Звенигласка любимого пожалела и пытать не дала, носилась вокруг него, как вокруг дитяти малого.
Да и Иргу найденка не уставала благодарить за спасение. Едва только в Яре обжилась, принялась вышивать да продавать узорные платки и кики. Заработала – и перво-наперво Ирге праздничный передник подарила. Прими, мол, не побрезгуй. Ирга тогда на него глядела и в толк взять не могла: отчего же так тошно сделалось?
– Не злюсь, – буркнула девка. – Ерунду не мели. Подай вон ковш.
Звенигласка продолжила:
– Тебе ажно глядеть на меня невмоготу.
– Ну, гляжу ж как-то, не померла пока.
Звенигласка стиснула ковш тонкими пальцами, но не отдала, а неуклюже опустилась на лавку:
– Мне иной раз кажется, что померла… – Она вскинула на подруженьку ясные синие очи. – Что день за днем умираешь, когда меня в своем доме видишь.
Ирга фыркнула:
– Да разве ж это мой дом? Это теперь ваше с Василем гнездышко, а я… приживалка.
Она быстрым шагом пересекла предбанник, взялась за ковш, но Звенигласка вцепилась в рукоять так, что пальцы побелели.
– Неправда! – крикнула она. – Никто такого не говорит!
– Ты, может, и не говоришь. Ты одна, может, только…
Ирга рванула ковш на себя, но Звенигласка и тут не отпустила.
– Кабы не ты, я б давно утопницей стала. И… – она сжала локтями необъятный живот, – и Соколок тоже стал бы!
Ирга отшатнулась. Задела и перевернула ведра, сама едва не упала:
– Вы что же… Имя уже ребеночку дали?
Звенигласка зарумянилась:
– Вчера к Шулле ходили. Она живот помяла и… Мальчик будет. Наследник.
– Наследник, – горько повторила Ирга.
А в глазах потемнело. Ничего в этом доме у нее не осталось. Ни лавки у печи, ни сундука девичьего, чтоб ни с кем делить не пришлось, ни… брата. Все отняла у нее Беда. Беда, которую Ирга сама же в избу и притащила, как Лихо на шее.
– Ирга? Ирга, серденько!
Верно, страшен стал у Ирги лик, раз ятрова подскочила, невзирая на пузо, за руку ее к лавке подвела да холодной водицей на темя плеснула. Опустилась на колени, все в глаза норовила заглянуть, прочитать в них что-то. В ушах у Ирги звенело. Ничего-то у нее, у кукушонка, не осталось. Ничего!
Она оттолкнула ятрову.
– Наследник?! – взревела Ирга. – Наследник у вас? А что он наследовать-то будет? Дом, прадедом моим, моим и Василька, построенный? Бабкин убор? Платья материны? Все забирайте, все! Ты и ублюдок твой нагулянный! Пусть от нашего рода вовсе ничего не останется!
Ирга выскочила во двор. Звенигласка – за нею. И очи ее сияли пламенем, какового прежде у ятрови Ирга не видала.
– Не смей так про моего сына! Рот свой поганый помой, прежде чем про него такое… Василь ребенка своим зовет!
– Василь сызмальства сирых да убогих привечает, а ты и рада стараться! Помяни мое слово, родишь ублюдка…
– Рот закрой!
Звенигласка схватилась за прислоненную к стене бани дощечку. Как есть убьет! Но девки так и не узнали, хватило бы у той духу замахнуться или нет. Потому что под дощечкой сидела гадюка. Черная как смоль, не сразу углядишь. Звенигласка и не углядела: солнце уже клонилось к закату, глубокие тени очертили дома, а в тех тенях прятались змеи. В Гадючьем Яре гадюк не боялись. И этой, в три пальца толщиной, свившейся кольцами, быстрой, как стрела, Ирга не убоялась бы тоже: всем известно, что первой змея не нападет. На Иргу не нападет, а вот на потревожившую ее Звенигласку… Ятровь, непривычная к болотным тварям, не разглядела змею. Она лишь попятилась к стене, мешая гадюке скрыться.
– Змея! – шикнула Ирга.
– Сама змея! – ответила Звенигласка.
Ответила и шагнула аккурат так, что гадюка решила: нет спасения. Ядовитые змеи жалят быстро. Сердце ударить не успеет, крик, зародившийся в горле, не вырвется.
Ирга бросилась вперед. Прямо под удар: Звенигласка все ж замахнулась и, зажмурившись, опустила дощечку. Та скользнула по плечу, разодрала рубаху, но Ирга уже летела наземь, животом навстречу гадюке. Она придавила змею собственным телом, ощутила, как тварь забилась под ней в поисках выхода… Но не ужалила. Правду врали бабки: тех, кто вырос в Гадючьем Яре, гадюки не трогают. А вот Звенигласке несдобровать было б…
– Матушка! Васи-и-и-иль! – вскрикнула ятровь и бросилась в избу.
Она так и не увидела змеи. Лишь взъярившуюся Иргу и ее разинутый в крике рот. И только богам известно, чем бы дело кончилось, замри рыжуха на месте.
Ирге первой довелось узнать, что испытала Звенигласка в плену и что возвращаться ей боле некуда: родную деревню сожгли соседи, те, с кем не раз и не два вместе на ярмарке веселились, на засядки собирались. Сожгли, потому что на холме пшеница вызрела, а в низине погнила…
Звенигласка осталась жить у них. Яровчане приходили справиться о здоровье и судьбе чужачки, но вскоре потеряли к ней интерес. Староста же с первого дня что-то понял и, отозвав Василя в сторонку, нашептал ему на ухо да дал небольшой мешочек с деньгами – устроить девку.
День шел за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Скоро Звенигласка уже не в силах была скрывать округлившийся живот. Кажется, тогда-то Иргу и проняло. Брата она знала: Василь Звенигласку и пальцем бы не тронул не то что против воли, а и даже просто без благословения волхвы. Но то Ирга знала, а соселяне все чаще посмеивались, указывая пальцем то на Василька, то на Звенигласку. И вот однажды найденка улучила момент. Собрала в узелок нехитрые пожитки: еду, одежу да подаренный Васильком пояс – и пошла куда глаза глядят. Далеко, впрочем, не сбежала.
Сироты спят чутко. Не так-то много у них добра, чтобы позволить лихому человеку забраться в дом да утащить что-нито. Вот и тогда проснулись оба: и брат, и сестра. Но Ирга поглядела на Звенигласку из-под опущенных ресниц да и не стала окликать. Пусть ей…
Василь же рассвирепел. Он спрыгнул с полатей, где спал отдельно от девок. Звенигласка от испугу едва снова не онемела. Выронила узелок, ногой затолкала под лавку. А Василь наступал грозно и неотвратимо.
– Или мы плохо тебя принимали?! – рявкнул он. – Или обижали?! Может, кормили не досыта?!
Звенигласка низко поклонилась, ожидая удара.
– Прости, хозяин добрый. Всего вдосталь, всем твой дом хорош, – пролепетала она.
Василь заставил ее разогнуться, схватил за плечи и встряхнул:
– Мой дом? Не мой он, а наш! Мой, Ирги и твой! Что же крадешься в ночи, как вор?! От чего бежишь?!
Звенигласка всхлипнула, глаза ее, синие озера, налились влагой, а Ирге от вида этих влажных глаз тошно стало. Вот уж правда, отплатила им гостья за доброту! Хорошо хоть избу не обнесла…
По щекам Звенигласки покатились слезы, и она выкрикнула:
– От тебя, глупый! – И добавила тихо: – От тебя. Неужто не понимаешь?.. Неужто не… не видишь?!
Видеть-то Василек видел. Видела Ирга, соседи все видели, староста с женой, бабка Лая с младшим, любимым, внучком. Все видели и пальцами тыкали, кто втихомолку, кто не таясь. Да и как спрячешь, что на сносях? Селение маленькое, а люди в нем ох и глазастые да любопытные!
– И что с того?
Звенигласка положила ладонь на живот:
– Все видят. Понимают. А скинуть дите я не… Хотела, у Шуллы спрашивала зелье. Но не смогла. – Найденка горько махнула рукой. – Слабая я. Трусливая. Так мне эту ношу теперь и нести. А тебе кукушонок ни к чему.
Василек вдруг наклонился да прижался щекой к едва наметившемуся животу.
– Мы с Иргой тоже кукушата, – сказал он.
– Как?!
Выпрямился, поцеловал Звенигласку в лоб и ласково ответил:
– А вот так. Спать иди, дуреха. Утро вечера мудренее.
Звенигласка послушалась, легла обратно на широкую лавку, где девки спали вдвоем, прижалась к боку Ирги и, как за ней водилось, тут же уснула. Сама же Ирга пялилась в потолок до самого рассвета, когда Василь, ступая на цыпочках, вышел из избы.
Вернулся он не с пустыми руками. Сел и хитро глядел, как хозяюшки суетятся в избе, как накрывают на стол, как сдабривают кашу жиром. А когда взялись за ложки, протянул Звенигласке сверток. В том свертке лежали брачные наручи.
Браслеты закрыли шрамы, оставленные по осени веревками, и боле Звенигласка о пережитом горе не вспоминала. Василь же стал считаться мужем и отцом, а Ирга…
Как только не величали ее опосля в Гадючьем Яре! Младший брат женился вперед сестры, стало быть, сестра перестарок; живет под одной крышей с мужем и женой, значит, приживалка; замуж не идет, стало быть, не берет никто с таким-то норовом! Мало-помалу Ирга и сама в то поверила…
Глава 2
Ночь великих костров

Василь старался не глядеть на сестру, но говорил ровно:
– И на Ночь костров тебе лучше с нами не ходить.
Сердце Ирги замерло и ухнуло вниз. Вот и все. Еще тогда, в бане, она думала, что больше отнять у нее нечего. Но брат, знавший ее как никто, с нею вместе переживший и уход матери, и смерть бабки, нашел.
– Не трогала я ее, – безнадежно повторила Ирга. – Ты что же, ей веришь, а мне нет?
Василек сдавил виски пальцами – видать, голова разрывалась от бабских склок.
– Я обеим верю. И тебе, что вреда не чинила. И ей, что напугалась до полусмерти. Но у меня сын.
Ирга облизала пересохшие губы:
– Сын… А сестры, выходит, у тебя нет?
– Сестра есть, а сын будет, – спокойно ответил он. – И лучше, чтобы не раньше сроку. Перепугалась она. С кем не бывает? Не надо ее сегодня больше прежнего тревожить.
– Что ж… Коли не надо…
Ирга метнулась к сундуку, который вот уже почти год они со Звениглаской делили пополам. Поначалу она сама предлагала гостье свои наряды. Мало чем там гордиться стоило, конечно. Платья как платья: неяркие, с простой вышивкой. Лишь материны вещи Ирга берегла и не позволяла не то что надевать, а и трогать даже. Но это Ирга не позволяла, а Василь как-то раз возьми да и подари Звенигласке праздничный сарафан, украшенный бисером. Тот самый, в котором они любовались на мать в последний раз. Теперь у Ирги не было и этого…
Она захлопнула крышку сундука: нечего ей с собою брать.
– Коли не надо, – процедила она, – так я не потревожу. Только потом не ищи. Да ты и не станешь.
Она вышла за дверь. И только услышала, как брат со злости одним махом скинул со стола посуду, приготовленную к праздничной вечере.
* * *Торжество звенело в самом воздухе. Гуляний ждали и старики, дабы помериться, у кого румянее выйдет сытный пирог с рыбой али с грибами-колосовиками, и молодежь – поплясать, хороводы поводить, а как совсем стемнеет, враки друг дружке у костров порассказывать. Маковка лета – редкое время, когда даже в Гадючий Яр приходило тепло, потому в каждой избе нараспашку держали резные, подернутые зеленым мхом ставни, и веселие, видневшееся за ними, было Ирге что кость в горле.
Бабка Лая, подперев сухонькими кулачками подбородок, любовалась, как любимый младшенький внучок уплетает угощение, хотя стоило бы прежде дождаться, чтобы вся семья собралась. У Костыля, закадычного Васова друга, из окон гремела пьяная песня. От старостиного дома шел такой дух печева, от которого недолго слюной захлебнуться: жена Первака дивной слыла мастерицей у печи и секретов своих яств никому не раскрывала, хотя и ходили слухи, что готовит вовсе не она, а сам староста. Эдакое умение для мужика – смех один, потому Первак нипочем не сознался бы, но, когда случались у него гости, бороду-лопату поглаживал особенно самодовольно и все спрашивал, хорошо ли угощение.
Холодное тело тропки змеилось меж дворами, петляло от одной избы к другой, но нигде Ирге не было пристанища. У кого вечер скоротать, кому поплакаться на горькую судьбинушку? Ни подруженьки, ни милого, ни даже старой Айры, что всегда бы утешила, всегда погладила бы медную голову. Мимо бегом промчались сестрички-хохотушки, дочери старосты. Завидев Иргу, они соступили с тропки в росистую траву и обошли по большой дуге: не ровен час, еще сглазит, рыжая! А разминувшись, о чем-то зашептались и захихикали. Наконец та, что посмелее, старшая, крикнула Ирге вослед:
– Кукушонок!
Ирга не отмолчалась. Развернулась на пятках да как гаркнет:
– Вот я вас щас!
Ох и дали девчушки деру! Батька-то их воспитывал в строгости, но как не испытать храбрость да не уколоть нелюдимую приживалку! Будь сестричкам годков побольше, Ирга не преминула бы догнать да отлупить, а после, может, еще и за косы к батюшке отволочь. Но девчушки еще не уронили первую кровь и, сказать по правде, резвы были без меры – не угнаться.
– Вот попадетесь мне! – бессильно погрозила им вослед Ирга.
И до того обидно стало! Что же это: дети малые и те ее дразнят?! Она потерла глаза, не выпуская злых слез, и со всех ног бросилась к болотам.
Тропа оживала. Чем дальше от деревни, тем пружинистее она делалась, дышала, норовила вывернуться из-под босых ступней – напитывалась болотной влагой, что рудою текла по туше Жабьего острова. Позади остался гул деревни, запах дыма и съестного сменился на сырой болотный дух, но густые туманы, чернеющие бочаги и едва слышный шепот воды не пугали Иргу: Ирга сама была частью Гадючьего Яра, родилась и выросла в этом промозглом краю, ей ли бояться?
Селение раскинулось по берегу подковой. Там, где почва худо-бедно держала, ставили дома и разбивали огороды – маленькие, на пяток-семерик грядок, да и на тех урожай родился скудный. Середку же острова сплошь покрывала трясина. Чтобы не таскаться подолгу с одного края становища на другой, местные кинули на нее мостки и зорко следили, чтобы гниль нигде не попортила доски. Мостки лежали на болоте, как на водной глади, едва ощутимо покачиваясь, но всякий знал, какая опасность скрывается под ними. Днем там ходить – милое дело, но не на закате, когда тени глубже и резче. Поди разбери, на дерево ступаешь, на кочку али в яму. Провалишься по самую шею – только тебя и видели. Но Ирга шла. Шла и не думала, что потревожит тварей ползучих, а то и кого пострашнее, кого по темноте яровчане называть не рисковали. Потому что в самой середке болота стоял погост. И потому что на погосте похоронили бабушку Айру.
Едва ступив на мостки, Ирга опустилась на колени и лбом коснулась заусенчатых досок:
– Прости, матушка Жаба, что тревожу тебя в неурочный час. Не серчай, пропусти.
Тут бы еще угощения поднести, да взять с собой хоть что девка не догадалась, и теперь с пустым животом пришлось остаться не только старой Жабе, но и ей самой.
Небесное светило висело над краем острова низехонько, вот-вот нырнет в озеро, а в воду с него капало и расходилось кругами тревожное алое зарево. Не к добру! В Гадючьем Яре уже возжигали костры, затягивали песни, мерились, кто резвее прыгает. Скроется солнце – пойдет настоящее веселие. Никто, окромя Ирги, не видал дурного знамения.
– На что серчаешь, светило небесное? – вполголоса спросила она, щурясь на раскаленный уголек.
Тот перед сном утирался кружевными облаками и ничего не ответил. А что ему отвечать? Ирга покачала головой.
Яровчан на Большой земле не то чтобы особо любили. Все-то у них не как у людей! Вот и погост на острове заложили такой, что пришлый человек трижды плюнет да и обернется вокруг оси. Ирга же иного не знала. Ей думалось, что иначе родичей в Тень провожать и нельзя, только как дома заведено. Ну да всякому кажется, что его-то деды верные обычаи блюли. Впрочем, когда мостки подвели девку к середке топей, где земля ходила ходуном, подобно водной глади, поежилась даже Ирга. Все ж на ночь глядя мертвецов будить не след. Не о том ли предупреждало солнышко? Но упряма Ирга была без меры и, коль уж пришла, соступила с досок в болото:
– Ну, здравствуй, бабушка…
Травы на погосте не росло, один лишь мох. Ходить по нему следовало с великим уважением, даже обувку и ту предпочитали снимать, прежде чем топтать изумрудную поляну. Потому как, если пропороть мягкое покрывало, из того, как из живого тела, текла черная руда. И ежели кого угораздило в такую вот рану провалиться, то уже и не искали: трясина взяла свое.
Сюда приносили мертвецов. Клали на зеленое ложе, прощались и уходили. И через день на том месте, где лежал покойный, поднималось сухое дерево. Нынче погост там и сям вспарывали острые кроны. Ни листочка не было на них, ни ягоды, ни шишки. Но деревья росли, тянулись вверх, словно чаяли соединить небо и землю. А может, так оно и было.
Свое дерево Ирга узнала сразу: на его голых ветвях колыхались белоснежные ленты. Одна, вторая, десятая – не перечесть. Такие же ленты обвивали руки бабушки Айры, когда яровчане несли ее на болота. Ирга и Василь шли тогда, прижавшись к посмертному ложу, и края длинных полотен щекотали им щеки, словно бабушка утирала слезы сиротам.
Дерево будто бы шевельнулось.
«Здравствуй, внученька».
В Гадючьем Яре ленты вязали за добрые дела. И не нашлось на острове никого, кто не принес бы последний дар для доброй старушки Айры.
Пошатываясь, Ирга добежала до приметного ствола – мох так и загулял под ногами! Поймала край одной ленты и прижала к губам, а слезы полились уже сами собой.
– Ошиблась ты, бабушка, – всхлипнула девка. – Пророчила, что быть нам с Василем вдвоем супротив целого мира, а осталась я одна. Почто ж ты меня обманула?
Долго бы Ирга еще сидела на погосте, себя жалеючи. Может, там бы и заночевала. Но, едва заслышав голос, разве что не подпрыгнула.
– Ирга, ты?
Она сделала отвращающий знак рукой – крест-накрест перечеркнула перед собой воздух. Одна радость, что от слез следа не осталось. Все высохли, когда от ужаса сердце остановилось. И потом только девка уразумела, что голос-то знакомый:
– Костыль?
И верно: на мостках стоял, высоко подняв руку, закадычный друг Василя – долговязый рыбак Костыль.
– Что, напугалась? Решила, утопник за тобой явился?
Парня, и верно, немудрено было принять если не за утопника, то хотя бы за жердяя[2]. Дзяды врали: эдаких духов в Гадючьем Яре раньше водилось видимо-невидимо. Огромные – случалось, что и с избу ростом, – худые, что жерди. Им болото было по колено, вот и жили на острове. Но после пришли люди, привели с собою светлых богов, и нечисть, убоявшись, попряталась по углам. Однако ж раз или два в год выходят нечистики, воют о былом, в окна заглядывают… Ну или так врут люди, дабы дети малые ночами из дому носу не казали.
– Тебя-то? Ты, конечно, страшен без меры, но не настолько, чтобы меня напугать.
Костыль рассмеялся:
– Ну, добре, Васу расскажу, что ты меня красавцем назвала.
– Вот еще! – фыркнула Ирга, украдкой переводя дух.
– Ты что это по погосту ночью шастаешь? Все веселье-то на берегу, у запруды.
Ирга резко ответила:
– У меня свое веселье. Иди, куда шел! Или тебе самому любо после заката болото топтать?
– Может, и любо, – хохотнул Костыль. – Пойдем, провожу тебя.
– Выдумал тоже. Что я, дороги не знаю?
Парень маленько помялся на мостках, но к погосту спускаться не стал, поостерегся. Досадливо бросил:
– Вот же норовистая! Что тебя, брат совсем не воспитывает?
Ирге ажно лицо перекосило.
– Я сама кого хошь воспитаю, – процедила она и отвернулась.
Костыль окликнул ее еще раз или два, но девка села, прислонившись спиною к бабушкиному древу, и прикрыла глаза. Мох под нею медленно колыхался, не то сам живой, не то скрывающий жутких болотных тварей. А то и впрямь дышала старая Жаба, вырастившая когда-то на своей спине целый остров.
Когда Ирга открыла глаза, Костыля рядом уже не было. Однако ушла и благость, каковая накрывала ее всякий раз, как девка навещала старую Айру. Стемнело окончательно, зато музыка и смех по ночному воздуху легко летели с одного края острова на другой. Тут заодно вспомнилось, что загодя сготовленное для вечери угощение Ирга так и не попробовала, да и весь день пробегала голодная. К тому же болото тянуло холодом сквозь мох – долго не усидишь. Пришлось подняться и отправиться на праздник, чтоб его.
Мох нехотя отпустил добычу, следом ноги ступили на скользкие от росы мостки. Ирга повернулась к бабушкиному древу – в темноте ленты белели и извивались.
– Свидимся еще, – попрощалась она, а болото вздохнуло в ответ.
Недолго девка шла в одиночестве. Костыль, как оказалось, лишь отошел в сторонку от погоста, а там, где земля уже не дышала так глубоко и мох сменился травами да кустарником, уселся ждать. Уселся он аккурат возле широкого ручья: коротал время с баклажкой браги.
– Что, замерзла? – окликнул он. – Иди сюда, найду, чем согреться.
Будь Ирга скромна да робка, как девке и надобно, она бы припустила к людям: голос выдавал, что баклага у Костыля не первая. Еще с вечера в его хате гремело пение – всяко не насухую веселились. Но Ирга слыла нахальной да своевольной, она даже шагу не прибавила. Вот еще!
– Ты давай как-нибудь сам.
Костыль же, верно, только ее и ждал, так что отставать не собирался:
– Ирга! Ну что ты как дикая? Или я тебя чем обидел?
Правду молвить, он в самом деле ничем ни Иргу, ни других девиц не обижал. Да и Василь не стал бы абы с кем водить дружбу. Случалось, Костыль и гостинец какой приносил, и Ирга со Звениглаской не брезговали, брали. Потому ни убегать, ни брехаться девка не спешила, а когда Костыль нагнал ее, не подумала напугаться. Спьяну парень поскользнулся на досках, схватился за девкино плечо и едва не упал с нею вместе, но Ирга устояла и Костыля удержала тоже. Однако ж тот решил, что все наоборот:
– Ты держись лучше за меня! Не ровен час, оступишься!
И подставил локоть: мол, хватайся.
Ирга фыркнула:
– Размечтался.
И без того ее перестарком кличут, но оно все ж лучше, чем гульней. А коли кто застанет, как она в ночи с кем-то под руку идет, иного никто и не подумает.
Костыль не смутился и протянул баклагу:
– На, глотни.
От тары сладко пахну́ло клюквенной настойкой, а с тем вместе ветер пробрал холодом и без того занемевшее тело.
– А давай, – решила девка и сделала длинный глоток.
Наперво клюквенный жар ожег горло, но после по жилам побежало тепло. Костыль ухмыльнулся: