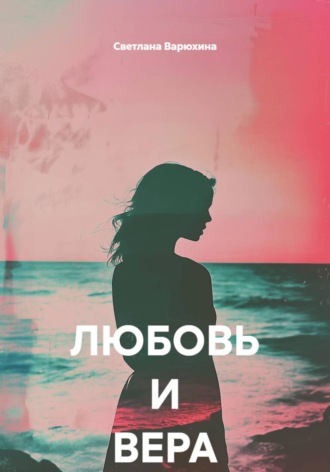
Полная версия
ЛЮБОВЬ И ВЕРА
Не прошло и недели после рождения котят, как утром, проснувшись, Павел Иванович услыхал писк. Наклонившись, он увидел, что на полу, на коврике возле тахты, лежала Алиса и в её брюшко тыкались, ища молоко, все трое котят. Алиса подняла голову и приветливо что-то хмыкнула Павлу Ивановичу. Котята быстро успокоились и стали дружно сосать, причмокивая, массируя передними лапками живот матери.
Проснувшись, Леночка принесла корзину Алисы, сложила туда всех котят и унесла в свою комнату. Не успела она умыться, как кошка в зубах бережно, но упорно перенесла всех своих детенышей на старое место у постели Павла Ивановича.
– Да пусть уж тут останутся, раз ей так хочется, – заступился за Алису старик, – и мне будет веселей.
Леночка радостно засмеялась:
– Вот и славно, видишь, как она тебя полюбила, даже детей своих тебе на подмогу принесла.
Лежа днями практически один, Павел Иванович с замиранием сердца наблюдал за кошачьей семейкой, удивляясь и радуясь виденному. Впервые в своей жизни он мог спокойно и неторопливо наблюдать, как развивалась жизненная сила в этих хрупких крохотных тельцах, трогательных в своей беспомощности и бессилии. Но более всего удивляла Павла Иванович разумность крошечных существ. Иногда они дрались между собой за лучшее место у брюшка матери. В короткие отлучки Алисы они тесно прижимались друг к другу, образуя тесный клубочек. Приход матери они встречали дружным отчаянным писком и набрасывались сосать молоко. Самый крупный, видимо, котик, старался на дрожащих от слабости лапках обследовать свое жилище. И вдруг Павел Иванович понял, что младенчество так же, как болезнь и беспомощная старость, одинаковы своим бессилием, недостатком жизненной силы, которая сковывает движение тела. С трудом приподнимая круглые головки, на дрожащих лапках котята осторожно стали ползать в корзинке, исследуя за своим более сильным братом гнездо. «Слепые и, наверное, глухие, – с жалостью думал Павел Иванович, глядя на них с состраданием. – Какие они беспомощные, делай с ними что хочешь, и то правда, что живы они только добротой человеческой».
Шли дни, котята наливались силой, стали открывать синие младенческие глазки. Павел Иванович не уставал восхищаться материнскими способностями Алисы. «Смотри-ка ты, – думал он, – первый раз стала мамой, а все правильно делает, какая мудрая, какая терпеливая. И все чисто – ни пеленок не надо, ни распашонок. Ни крика тебе, ни шума».
Павел Иванович вспоминал, как росли их дети, сколько бессонных ночей, забот и трудов пришлось им пережить с Анной Ивановной. «Как несовершенен человек, – думал он, – как жаден, неряшлив, все ему мало, готов все уничтожить ради своих удовольствий», – философствовал старик. Изредка забегал сосед Николаич. Он всегда приносил свои «фирменные», как он говорил, яблоки, уговаривал их есть как можно больше, потому что в них «железа много, скорее поднимешься».
– Грызи вот, что тебе остается. Я смотрю, тебя кошка твоя хорошо лечит, да и повеселел ты, поправился, вон какой гладкий стал, – ободряюще улыбнулся сосед. – Иногда я грешным делом думаю: самому бы что-нибудь сломать, но только чуть-чуть, чтобы было время полежать да и о жизни маленько подумать. Совсем закрутился.
– Да, жизнь нам досталась, как в гору идти с полным мешком, – согласился Павел Иванович, – только тогда ты и отдохнешь, когда свалишься. Я вот лежу тут днями, почти один, девки-то мои днями управляются, да все о жизни своей думаю. На многое иначе стал смотреть. Может, зря мы так суетимся? Может, и не надо нам столько всего? Ведь дети наши обеспечены, а нам с матерью все хочется их побаловать. Наверное, надо и есть поменьше, да и тряпье часто лишнее собираем. Получается, что жизнь свою тратим на тряпки да на еду. Суетимся, огрубели, зачерствели, не знаем, зачем живём. Вот ты посмотри, как просто и мудро живут животные. Я вот наблюдаю за этой подругой, – с улыбкой Павел Иванович кивнул на кошку, – и думаю, что у неё действительно можно многому научиться.
– Ну, ты загнул, Павел Иванович! Чему эта неразумная тварь меня, старика, может научить? – удивился Николаевич.
– Может, я немного и загнул, но не так уж и много. Просто мы про них ничего не знаем, как и про себя. А вот мне кажется, что они очень много знают об этой жизни, но ровно столько, сколько им нужно. Знаешь, как я удивился, когда увидел, что новорождённым котятам, глухим и слепым, снятся сны – самые разные, иногда страшные, так они лапками дёргают, будто стараются убежать. Что они могут видеть в снах, если света белого ещё не видали? Сплошные загадки.
– Вот тото и оно, что кругом сплошные загадки, да только нам с тобой не до отгадок, пойду уж я, пора скотину кормить. Крепись тут.
Павел Иванович проводил взглядом сутулую фигуру соседа, посмотрел весело на Алису, та ответила понимающим взглядом и что-то хмыкнула.
– Ну, подойди ко мне, помурлыкай мне малость, – ласково обратился он к своей любимице. Алиса поняла, потянулась, осторожно переступая лапками, чтобы не задеть спящих котят, подошла к самому лицу больного и стала громко мурлыкать, отвечая на ласковые поглаживания. На душе Павла Ивановича стало тепло и спокойно, как в далёком детстве на тёплой печи под заунывную песню зимней вьюги.
Сольвейг
Очередное предательство было такой сокрушительной силы, что Илья почувствовал, как рывком сдвинулась земная ось и погасла его звезда. Сознание помутилось, сильные ноги вдруг стали ватными, и одна мысль: «Уйти, уйти скорее, только бы не упасть, только бы не упасть». Илья, ни слова не сказав в свое оправдание или объяснение, медленно повернулся к тяжелой ярко-коричневого цвета двери и вышел из кабинета, на автомате прошел длинный коридор, застланный широким красным ковром, и вышел на улицу.
Тяжелая массивная офисная дверь бесшумно отрезала космический холод и темень, густо приправленные обидой и разочарованием. В лицо Илье ударил яркий, плотный солнечный свет, дерзкий ветер откинул с горячего лба поседевшую прядь. Илья жадно вдохнул упругий воздух, сразу стало легче, в груди мгновенно растаял «тяжелый лед». «Все, хватит, это было все, последнее, пошло оно все…»
Он сел на скамейке в сквере, откинул голову и закрыл глаза. Августовский день становился тише, наступал пятничный вечер. Как он его любил раньше, в той, оставшейся жизни! Возвращаясь со службы по пятницам, он заезжал в «Ригу», набирал целую корзину всяких «присмаков», обязательно зеленую бутылку «Шампанского», и они с Ингой устраивали маленький праздник при свечах, под легкую фоновую музыку, с теплым сиянием цветов, меняющихся от сезона, потому что у Инги не было любимых цветов. Она любила все подряд, лишь бы были свежими и чтобы их дарил ей только он.
И вот две недели назад – до чего же банальная история – он приехал на день раньше из командировки, открыл дверь своим ключом, и теплый полумрак, запах «Шампанского», шепот с придыханием, сочный и звонкий поцелуй были громче камнепада в горах и свирепее арктического холода. Илья, не заходя в комнату, в которой безмятежно ворковали голубки, зашел в ставшую такой чужой спальню, собрал в небольшой чемодан самое-самое и ушел, не прикрыв за собой входную дверь. Утром на службу позвонила Инга, что-то лепетала про старого сослуживца… Илья сухо прервал её: «Извини, я на службе. Можешь подавать на развод первая. Прощай».
Илья вспоминал, как он жил в тот день, уже БЕЗ НЕЁ. Еще живя с Ингой, он представлял себе подобное, и ему казалось, что он не в состоянии пережить такой удар. И вот это случилось. И он жив, даже работает, как прежде, звонит, договаривается, общается и даже почти засмеялся пару раз в ответ комплиментам. Почему так, неужели у них с Ингой все было так неглубоко, что расстаться можно вот так, спокойно, почти привычно?
А сейчас Илье было почти хорошо. Удивительное состояние. Ничего не хочется: ни есть, ни пить, ни холодно, ни жарко. Какая-то непонятная и сладостная легкость. «Что же это такое?» – спросил он у самого себя, и вдруг, как луч: «Свобода!» Илья вспомнил надпись на надгробии Мартина Лютера Кинга: «Свободен, наконец-то свободен».
– Нет, такой свободы я не хочу. Рановато мне еще туда. – Он снова закрыл глаза. Через закрытые веки он чувствовал, как слабеет тепло солнца, как наползает вечерний холод прощального месяца лета. И вдруг:
– Илья, ты ли это? Ты что, спишь, что ли?
Илья недовольно открыл глаза и увидел нависшего над ним рыжего здоровяка с раскрытыми для объятий руками.
– Вот черт! Да, я это, я, – от радости Илья просто обалдел. Сейчас, когда никого не хотелось бы видеть, этот единственный человек был просто подарком судьбы.
– Антон, чертушка рыжий, откуда ты взялся? Как я тебе рад, ты даже не представляешь, как я рад и как ты мне нужен!
– Отлично, а то я иду мимо и вижу, уж не бомж ли на солнце греется? Ты что, спать что ли здесь собрался? – смеясь, спросил Антон.
– Да, практически да, почти точно да.
Антон хотел посмеяться, но, взглянув в глаза Ильи, понял, что дела у друга плохи.
– Знаешь что, – предложил он, – пошли в какую-нибудь кафешку, там и поговорим. Жрать так хочется. Я сегодня только из Горок. Все дела сделал, а поесть не успел. Давай, веди меня, ты здесь все лучше меня знаешь.
Заказ быстро и ловко принесла хорошенькая упитанная официантка, с некоторым удивлением посмотрела на молчащих мужчин. Антон и Илья ели молча: оба понимали тревожность и важность момента. И, как принято у славян, после выпитого графинчика водки Антон, глянув на Илью в упор, спросил:
– Ну, что там у тебя стряслось? Колись, чего уж там.
– Да ничего особенного, даже рассказывать противно. Просто я свободен.
– Как свободен? А Инга?
– Ее больше нет, она улетела на Марс, там и будет жить до конца своих дней.
– Так, понятно, давно бы так, – заметив протестующий жест Ильи, добавил: – Понял, об отсутствующих – ни гугу. Ну, а на службе как? Что там могло случиться?
– Тоже ничего особенного. Просто сделали козлом отпущения.
– Да, бывает… – Помолчали.
– А знаешь, – продолжил Антон, – а не случайно мы встретились. Я ведь ехал на день и не планировал заезжать к тебе, даже не думал, что сумею позвонить, а тут – на тебе. Нет, дорогой, в этом запутанном мире все-таки ничего случайного не бывает. Помнишь: «Что Бог ни делает – все к лучшему». Значит, так надо было. Я, знаешь, давно про тебя думаю. Пора тебе, друг, возвращаться домой, в Горки, в академию. Хватит, надышался столичного воздуха. У нас спокойнее, все на виду. Кстати, на нашей кафедре есть доцентская вакансия, так что работой будешь обеспечен.
– Я подумаю, – медленно проговорил Илья. Антон горячо стал убеждать:
– Если только ты и вправду в таком положении, решайся, вспомни, сколько наших осталось. Да и вообще, блудный сын, пора возвращаться в родные пенаты.
– Да, – грустно дополнил Илья, – к родным могилам.
– И это тоже. Часто ли ты бывал на этих могилах? Все с возрастом собираются домой.
– Ну, какой уж у нас возраст – еще и полтинника нету, – вяло возразил Илья, понимая правоту друга. – Ну, расскажи, как там наши? Соня замуж не вышла?
– Ты же знаешь, что нет. Она тебя ждет. Сольвейг она оказалась настоящая, кто бы мог подумать. Живет, работает, сына твоего растит.
Илья рванулся со стула.
– Какого сына, что ты такое говоришь?
– Твоего, твоего, – и, видя почти шоковое состояние друга, стал доверительно объяснять. – Она долго скрывала от всех, что это твой сын, но с возрастом Ленчик, как она его зовет, так стал на тебя походить, ну прямо одно лицо, так что отпираться было бессмысленно. Я ей сто раз говорил: «Признайся Илье, расскажи о сыне». Она отвечала упрямо всегда одно: «Придет время – узнает». Вот, видно, и пришло это время.
Илья сидел, обхватив голову руками так, что, казалось, череп не выдержит.
– Я подозревал, она мне намекала, но я отвертелся: рано, мол, еще детьми обзаводиться, сами еще не жили.
– Вот умница, вот молодец! – воскликнул Илья, и глаза его загорелись: – Давай поедем домой, правда, я поеду с тобой. Вот сейчас, в чем есть – и в дорогу.
Антон радостно засмеялся:
– Вот это, по-моему, вот это по-мужски, по-нашенски.
Почти весь путь оба молчали, каждый думал о своем. В душе Ильи клокотали ураганы эмоций, все смешалось: несказанная радость, смятение, страх: «А как встретит?», но все эмоции заглушали радость и надежда. Добрались до Горок поздним вечером. Сияли яркие звезды, каких Илья уже давно не видал. «Потому что воздух чистый, – автоматически решил он, отвлекаясь от наползавшей тревоги. – Но как я приду, без цветов, без подарков, да и вообще, как она меня встретит?» Антон прервал его сомнения, подтолкнув за плечо:
– Иди, видишь – ее окно светится. Это она тебя ждет. Ну, с Богом!
Илья долго поднимался по ступеням до второго этажа. Каждый шаг давался с трудом. «Вот дурак, вот дурак, что же будет, на что надеюсь?»
Позвонил. Дверь открыл рослый паренек. Пристально посмотрев прямо в глаза Илье, предложил:
– Входите, – взял его за руку и провел в гостиную.
В большой уютной комнате, в самом центре, Илья улыбался с портрета. Мелькнула мысль: «Вот почему он меня сразу узнал». Заметил еще несколько фотокарточек, групповых снимков, на которых тоже был он.
Теплая волна поднялась от сердца к глазам. Стало так спокойно и радостно на душе. Он подошел к сыну, обнял его за плечи, тот прижался к нему. Так они стояли молча несколько мгновений. И вдруг он спиной почувствовал ее. Оглянулся: Соня стояла в дверях, опершись плечом, и столько любви и нежности было в ее сияющих глазах, что он понял, что он дома и так долго она ожидала его не напрасно.
Ночь перед атакой
Ранний июньский вечер был тихий и теплый. Днем прошел быстрый и светлый грибной дождь, и сочная молодая зелень пышной липы за балконным окном сияла в лучах уставшего солнца особенно ярко. Иван Васильевич, несмотря на свои «под девяносто», крепкий, седовласый, все еще стройный и подтянутый ветеран, торопливо подошел к отрывному календарю, висевшему у окна, и оторвал тоненький светлый листок с крупными черными цифрами: 22 июня 2012 года. «Вот и прошел этот день, такой красивый, такой теплый, такой спокойный. И сколько же я буду еще тревожиться в этот день? – спросил он себя и тут же ответил: – Пока буду жив, так и буду помнить. Ведь сколько лет минуло, а память не отпускает, правду же говорят, что в сознании человека нет времени».
Иван Васильевич сел в кресло, закрыв глаза, вспоминал, вернее, увидел, как в фильме под названием «Жизнь», ярко и чисто тот самый страшный день, который одним махом черным воющим вихрем опрокинул то устоявшееся, привычное, надежное, родное и теплое, что составляло содержание нормальной человеческой жизни…
– Дед, ты спишь? – голос внука Алешки был веселым и сочным, как и он сам, – упитанным, всегда веселым, уверенным, сытым.
– Уже не сплю, а что ты хотел?
– Да я хотел телек включить, ты не против?
– Давай включай, да ты же вроде куда-то собирался?
– Ну, еще рано, я с тобой хочу посидеть, музычку послушать, да ты сегодня что-то не очень веселый. Ты в порядке? Опять, небось, сорок первый год вспомнил?
– Все нормально, Лешик. А день сегодня такой, что не забудешь, вспоминается многое такое…
– Да ладно, дед, все это так давно было, что пора забыть и расслабиться, как сейчас говорят.
– Нет, внук, не все можно и нужно забывать человеку, тем более вам.
– А нам-то зачем про ту войну помнить, ну победили и забыли…
– А вот затем, чтобы снова этот кошмар не повторился.
Алексей на секунду задумался и произнес почти шепотом:
– А знаешь, дед, как я иногда тебе завидую. Ты воевал, ты – настоящий мужик, хоть и старый, ну хотя и не очень старый, ты еще у нас ого-го. – Алексей выразительно поднял большой палец. – Вот ты сидишь и вспоминаешь, а я что буду вспоминать?
Иван Васильевич посерьезнел:
– А это уже от тебя самого зависит, что ты будешь вспоминать. Ты думаешь, что война – это нормально, что только там можно себя проявить? Нет, ты тут очень ошибаешься. Нет ничего в этом мире страшнее, отвратительнее и ужаснее, чем война. Ничего нет страшнее, – повторил Иван Васильевич. – Война – это страх, боль, кровь, голод, холод, ужас, постоянное ожидание смерти, ненависть. Да нет слов, чтобы выразить все то, что навязано врагами. – Иван Васильевич разволновался, впалые щеки покрылись румянцем, серые глаза отливали нездоровым блеском. Алексей уже и не рад был такому разговору и, чтобы отвлечь любимого деда, включил телевизор. И как на грех, на весь экран Денис Майданов, победно запрокинув лысую голову, горланил:
– Молодым умирать не страшно…
– Какая глупая песня. – Иван Васильевич с досады плюнул, махнул рукой и пошел в свою комнату.
«Ну что он знает? Что они, молодые, знают? Не страшно? Еще как страшно, особенно молодым. Но мы знали, что готовы умереть, знали, за что и почему. Но каждый надеялся, и надеялся до самого конца. Вот уж точно, что надежда умирает последней. И каждый надеялся, как в песне: «Если смерти – то мгновенной, если раны – небольшой».
Защемило, заныло сердце, застучало в висках. Леша заглянул с виноватым видом:
– Ладно, дед, прости. Давай я тебе накапаю, а то ты совсем зарозовел. Давление подскочило?
– Спасибо, уже полегчало, а ты иди, иди по своим делам. Я в порядке, иди, только телевизор выключи.
Забота, участливость внука согревали. «Это все Алеся, – подумал Иван Васильевич. – Она всегда считала главным в воспитании детей и внуков сострадание, милосердие – основные нравственные качества. Вот что главное в человеке, остальное – приложится». Эх, Алеся, Алеся, ушла, оставила меня, но, спасибо тебе, добрых детей и внуков воспитала. Что мне сейчас еще нужно? Да ничего, кроме доброты и внимания».
Иван Васильевич прикрыл глаза, будто спать хотелось, но перед закрытыми глазами ветерана поплыли, как в замедленной съемке, кадры давно минувшего. Вот теплой весной, сразу после Пасхи, сыграли скромную свадьбу с Алесей. Жаркие ночи после тяжелой посевной. Успевали везде: и в поле, и в огороде. Иван Васильевич почему-то вспомнил ядреный хруст первых зеленцов-огурцов, их пьянящий аромат, ожидание бесконечной радости и счастья. И вдруг черный воющий вихрь войны безжалостно вырвал его из теплых ласковых рук Алеси, родного дома, родной земли и закружил, сводя с ума, по чужим дорогам, по которым шли и шли с кровавыми мозолями и волдырями. Страшно, жутко и непонятно. «Зачем? За что? Что мы кому сделали? Мы просто жили, трудились, любили, радовались жизни, не понимая тогда, какое же это счастье, оказывается, просто жить. И еще была ненависть, лютая ненависть к тем, кто все самое дорогое и простое сломал, уничтожил, вырвал из родного гнезда… Ненависть к фашистам была почти физической, хотелось душить их руками, давить сапогами, как ядовитых змей…
Особенно ярко Иван Васильевич помнил одну из последних атак, вернее, ночь перед атакой. Это было уже в сорок четвертом, когда все понимали: скоро конец этой чудовищной, бессмысленной, обреченной на поражение бойни. И тогда в измученных разлуками и ненавистью сердцах зарождалась теплая надежда выжить, вернуться, все вернуть: дом, очаг, детей, любовь, ведь были молодыми, закаленными, истосковавшимися по нормальной человеческой жизни. Очень хотелось жить!
Атака должна была начаться с рассветом. Стоял теплый благодатный июнь, и в эту короткую ночь никто не мог заснуть. Рядом была молодая березовая рощица. В густых ветвях деревьев надрывались беззаботные соловьи, перемигивались таинственные далекие звезды, и, если бы не эти влюбленные пташки, мир и тишина царили бы окрест. Но солдаты знали, какой недолгой будет эта тишина. Совсем скоро разорвет ее на куски грохот и вой, крики отчаявшихся людей, скрежет танковых гусениц, и ясное небо закроет плотная пелена черного дыма и огня и замолкнут несмышленыши-соловьи, которым никогда не понять этих странных людей…
Тут Иван Васильевич с удивлением вспомнил: «Да, действительно, страха не было. Но какая была надежда выжить! Ну не может быть, что меня скоро не будет… Такого никак не может быть. Это невозможно, – думал каждый». Потому что это было так противоестественно, так преступно. Молодые, крепкие, здоровые, так хотелось работать, любить, прижимать к сердцу детей, родных, строить, пахать землю… Тогда Иван Васильевич вспомнил и сердцем понял размышления Андрея Болконского, так живо описанного Львом Николаевичем Толстым. Как здорово он это описал, будто подслушал и наши мысли, и наши переживания…
Еще солнце не поднялось над горизонтом, как все завыло, загрохотало. Земля и небо смешались в грохочущем адском клубе.
Казалось невозможным выжить, выстоять в этом аду, а люди бежали навстречу друг другу в стремлении убить врага раньше, уничтожить. Иначе пропадешь сам. Молоденькие тоненькие санитарки непонятно какими силами вытаскивали тяжелых раненых мужиков. Да, действительно, страха не было, но никто не хотел умирать и мчался навстречу врагу или танку, хрипя самые крепкие ругательства и славянское «ура». И это тоже жизнь, потому что ты еще бежишь, стреляешь, швыряешь гранату под ненавистное грохочущее чудище с белыми крестами… Очнулся Иван Васильевич в медсанчасти. Над ним склонилась почти к самому лицу молоденькая санитарка:
– Ну вот, очнулся наконец, а то чуть не похоронили в братской могиле. Контузило тебя, братка, здорово, думали – убит, а тут тебя судорога скрутила, вот мы тебя заметили и подобрали. Ничего, отлежишься, еще и повоюешь…
Иван Васильевич хотел спросить санитарку, не белоруска ли она, но из стиснутого горла вырвался только тихий хрип.
– Ничего; ничего, – успокоила девушка, – все наладится, еще и петь будешь, и говорить…
Странно, сколько лет прошло, а Иван Васильевич помнит лицо девушки, будто видел ее вчера.
Алексей вернулся с «гулянки» необычайно рано: тревожило состояние деда. Тихонько подкравшись, приоткрыл двери спальни и шепотом спросил:
– Дед, ты как, живой?
– Да живой, живой, а как же! Мы, славяне, не сдаемся просто так. Крепче нас никого нет. А тебе, внучек, вот что скажу и всегда буду говорить: не допускайте больше никаких войн, поганое это дело, поганее ничего больше нет. Понял?
– Понял, дед, понял. Помнишь, есть песня такая: «Если бы парни всей земли…»
– Вот и молодец. Берегите жизнь. Спасибо, что проведал. Я не могу заснуть, пока ты домой не вернешься.
– Знаю, дед. Спасибо тебе! Спи спокойно. Я дома.
Новогодняя встреча
Было это очень давно, может быть, лет тридцать назад, в самом начале моей артистической карьеры. Вызывает меня накануне Нового года наша профсоюзница и отправляет посетить с визитом вежливости старую актрису, весьма заслуженную, но, как у нас водится, практически забытую.
Одинокую и, конечно, несчастную. Не тебе объяснять, как я был рад в кавычках этому поручению. Однако даже мимолетного взгляда в ледяные глаза нашей профбогини хватило на мое выражение радостной готовности и предстоящего счастья от будущей встречи с этой черепахой Тортиллой, как я мысленно уже успел окрестить артистическую бабулю.
Обрядившись в Деда Мороза, со скудными подарками под мышкой, я с тяжелой неохотой поднялся на третий этаж и не успел, как мне показалось, нажать на кнопку звонка, как оббитая коричневым дерматином дверь распахнулась и – о, чудо! – передо мной возникло чудное виденье, по крайней мере, не такое, какое я в подсознании ожидал. Передо мной действительно стояло нечто воздушное, тонкое, изящное, сияющее и лучистое. Ну, представь себе стройную, изящную женщину, в серебристо-голубом халатике с кружевами, воланами, рюшами, бантиками, перехваченную в тонкой талии блестящим кушаком, в золотисто-серебряных туфельках. Блестело буквально все: сверкающие изящные сережки, перстни на красивых тонких пальцах, а главное, сверкали живым юмором большие голубые глаза. Если бы не пышная серебристая корона волнистых блестящих волос, я бы подумал, что ошибся дверью. Но в еще больший шок меня ввергли ее слова, сказанные дерзко и весело:
– Сними бороду и заходи.
Видел бы ты, как я растерялся. Ведь обычно могли бы сказать: сними обувь, а тут… Я было наклонился при входе в прихожую, чтобы снять туфли, но хозяйка сильной рукой подтолкнула меня в глубь прихожей и снова весело повторила:
– Сними бороду и вообще весь этот камуфляж.
Я с готовностью подчинился, сбросив прямо на паркет весь дедморозовский прикид. Хозяйка жестом пригласила в гостиную:
– Вот и ладно. Спасибо, что посетил, но мне не Дед Мороз нужен. Я просто хочу поговорить с таким приятным молодым человеком. Это такое счастье – пообщаться с молодым коллегой. Сейчас я быстренько поставлю чай, у меня много всякого варенья. Ты ведь любишь варенье? А может быть, лучше кофе со сливками или (как вы там сейчас больше любите) по-турецки, по-английски?
Не дожидаясь ответа, Ангелина Максимовна (так звали актрису) ловко раскинула на круглом столе яркую оранжевую скатерть, расставила чашки и все прочее, но предупредила: «Алкоголя в доме не держу принципиально, а то мода пошла: подруга к подруге идет и бутылку тащит. Это что же за дружба такая?» Под мурлыкающее ворчанье хозяйки быстро закипел блестящий черный электрочайник. И, поверь, я с таким удовольствием наблюдал за ее такими нехитрыми действиями, что расслабился и почувствовал некий покой и умиротворение, которого, кстати, давно у меня не было. Хозяйка за несколько минут так расположила меня к себе, что моя неловкость испарилась вместе с облачком парующего ароматного чая.



