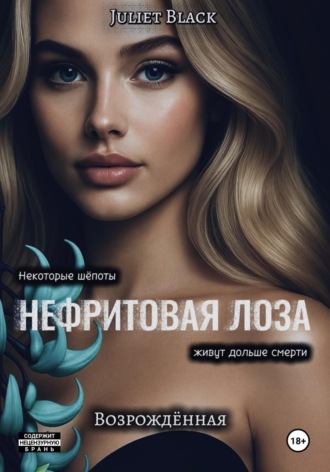
Полная версия
Нефритовая лоза. Возрождённая

Juliet Black
Нефритовая лоза. Возрождённая
Глава 1
Вторая книга дилогии «Нефритовая лоза». Продолжение истории, начавшейся в романе «Исчезнувшая».
Inspired by “Impossible” – James Arthur
«Некоторые вещи невозможно вернуть…
но ещё труднее – перестать помнить.»
Она спала.
Точнее, организм наконец сдался и отключился, потому что назвать это спокойным сном язык не поворачивался. Уголки губ ещё чуть дрожали, как после крика, дыхание то сбивалось, то выравнивалось, пальцы время от времени сжимались в простыню, словно ей всё ещё было от чего бежать. Щёки влажные, ресницы слиплись, волосы растрёпаны по подушке – светлое пятно на тёмном белье, не чужое, а до боли родное.
Моя кровать.
Моя квартира.
Моя женщина, которая почти год назад «умерла».
Я сидел напротив, в кресле у изголовья, с бокалом виски в руке и не мог оторвать взгляд. Напиток давно потеплел, лёд растаял, вода впиталась в янтарную жидкость, но я даже глоток не сделал. Горло и так жгло, как если бы я уже осушил полбутылки.
Смешно.
Сколько ночей я представлял её живой – не в кошмарах, не в воспоминаниях, а по-настоящему. Видел, как дверь квартиры открывается, и она заходит сама: усталая, живая, с тем самым, знакомым мне до мелочей взглядом. Бросает где-то у порога туфли, сдвигает с плеч пальто, ворчит, что день был тяжёлый, а потом падает на эту кровать, утыкается носом в мою подушку и тихо бурчит: «Ну вот, Хантер, теперь ты официально от меня не избавишься».
И вот – она здесь. Только без смеха, без упрямства, без права выбора. Просто вырубленная у меня на руках после паники, дождя и первой правды, которую вообще услышала за слишком долгое время.
Где-то глубоко под рёбрами всё ещё отзывалось эхо: её истеричный смех, когда я сказал «я твой муж». Сорванный криком голос. Глаза, полные ужаса и… неузнавания.
Она может отрицать сколько угодно. Тело помнит. И это хуже всего.
Я откинулся затылком на спинку кресла, зажмурился на секунду. Этого хватило, чтобы память снова сделала своё грязное дело и потащила назад, туда, где я начал превращаться в того, кем стал.
Нападение вспыхивало в голове обрывками.
Её голос где-то в глубине дома – мягкий, домашний смех.
Мои шаги по коридору – я шёл быстро, но не бежал, был уверен, что всё под контролем.
Крик. Резкий. Тот, после которого сердце перестаёт слушаться голову.
Бег.
Кровь. Много. На полу, на стене, в её волосах.
Она на полу – слишком неподвижная, слишком белая.
Чьи-то тени в дверях, выстрелы, боль в груди, падающий потолок, тьма, разрывающая сознание на клочья.
А дальше – больница.
Стерильный свет, запах лекарств, голоса врачей.
Мой брат, который держит меня за плечи, когда я пытаюсь сорвать с себя трубки.
Фразы, которые я тогда не столько слышал, сколько ощущал каждой клеткой:
«Мы сделали всё, что могли…»
И он.
Её отец.
Я до сих пор помню, как он стоял у окна в коридоре, когда я пришёл в себя. Прямой, собранный, выжатый досуха. Судья, привыкший к чужим приговорам, которому в этот раз пришлось выносить свой.
Он долго молчал. Не смотрел на меня. Я видел только профиль и пальцы, вцепившиеся в перила так, что побелели костяшки.
Потом всё-таки повернулся.
– Хантер, – сказал глухо. – Её нет.
Внутри всё дернулось, но я ещё держался. Ещё ждал продолжения. Ошибку. «Мы боремся», «она в коме», «есть шанс».
Он добил сразу:
– Из-за тебя я потерял дочь. Ты не смог её защитить. Пока ты цеплялся за свою жизнь на операционном столе, мою девочку уже опустили в землю. Понимаешь? Ты будешь жить с этим. Всю оставшуюся жизнь.
Каждое слово врезалось под рёбра, как новый выстрел.
Дальше я мог бы воспроизвести весь разговор дословно, но не хочу.
Дело не в том, что он соврал.
Дело в том, что я… поверил.
Я не потребовал показать тело.
Не перевернул морг.
Не поставил на уши всех своих людей, пока не убедился бы лично.
Я был на грани.
Полуразобранный, нашпигованный препаратами, с дырой в груди, со вскрытой клеткой и швами, через которые ещё сочилась жизнь. Раздавленный одной мыслью: она была в моём доме, под моей защитой – и я не уберёг.
Я принял этот удар как факт.
А потом сделал то, что умею лучше всего.
Я выжил.
И начал рвать.
Год без неё – отдельная глава, которую никто и никогда не прочитает до конца.
Город видел только результат: сделки, заключавшиеся за одну ночь; людей, исчезающих без следа; семьи и кланы, которые либо вставали на колени, либо уходили под землю.
Они говорили, что я стал зверем.
Что тот Хантер, который ещё умел иногда промолчать, где-то закончился.
Они не ошибались.
Пока другие делили районы, защищали «честь» фамилий, качали деньги и влияние, я занимался только одним – искоренял тех, кто хоть как-то был причастен к тому вечеру. Неважно, под каким флагом они ходили. Важно, что хотя бы раз подняли руку на мой дом. На неё.
Я не щадил никого.
Ни чужих, ни своих.
Если кто-то однажды сомневался, для кого он работает, – у него больше не было шанса сомневаться ни в чём.
Ничто меня не удерживало.
Никто не говорил «хватит».
Никто не смотрел так, как она, когда просила остановиться, просто кладя ладонь мне на шею.
И всё равно её голос не уходил.
Даже через год.
Иногда я вскакивал среди ночи с пульсом под двести, с пальцами, сжатыми так, словно в них до сих пор был пистолет. В комнате – тишина, только гул города за окнами. А в голове – её шёпот.
«Хантер…»
«Ты знаешь, что это за цветок?»
«Нефритовая лоза…»
Я вдохнул глубже, открыл глаза и снова посмотрел на неё – реальную, тёплую, живую женщину на моей кровати. Грудная клетка размеренно поднималась и опускалась, дыхание стало спокойнее. Она, конечно, скажет, что ничего не помнит, что ей всё это снилось, что я чудовище и псих. И будет права.
Почти.
Я поднялся из кресла. Тело отозвалось тугой ноющей болью, как после драки, хотя сегодня я ни с кем не дрался. Только разговаривал. Слишком тяжело, слишком поздно.
Пара шагов – и я уже у изножья. Ладонь лёгкая, но уверенная – на краю матраса. Я просто стоял и смотрел на её лицо. На уголки губ, где всегда пряталась улыбка. На тонкий шрам у виска, который она по-прежнему считает следом «нападения». На родинку у основания шеи, которую знают мои губы.
И память снова дёрнула назад – в ту ночь, где не было крови. Только сад. Тишина. И она.
Тот вечер был одним из редких моментов, когда мир внутри меня действительно молчал.
Я вышел в сад всего на минуту – выкурить сигарету, проветрить голову. И увидел её.
Алиса сидела на траве, поджав одну ногу, другой медленно вела по земле, рисуя невидимую линию. На коленях лежала книга. Сад подсвечивали мягкие жёлтые лампы, в этом свете её волосы казались ещё светлее, кожа – ещё тоньше, взгляд – глубже. Она читала вслух. Не громко, больше для себя, но я слышал каждое слово.
– Нефритовая лоза – один из самых редких и удивительных цветов в мире, – тихо проговорила она, проводя пальцем по строкам. – Её свисающие бирюзовые соцветия похожи на струи расплавленного камня, а оттенок лепестков меняется от глубокого зелёного до почти голубого…
Я подошёл ближе, не обозначая шага голосом. Она всё равно почувствовала – плечи чуть напряглись, спина выпрямилась. Но читать не перестала.
– Цветок распускается только ночью, – продолжила. – В темноте он светится изнутри – мягким, холодным сиянием, притягивающим взгляд. Сейчас это растение внесено в список охраняемых видов, потому что долгое время его считали полностью исчезнувшим…
Я остановился рядом, опустил сигарету, просто смотрел.
Она подняла глаза – и на секунду весь остальной свет в саду стал неважен.
– Подслушиваешь? – спросила. Голос усталый, но тёплый.
– Смотрю, – поправил я. – И слушаю. Разные вещи.
– Для тебя? – она чуть усмехнулась. – Сильно сомневаюсь.
Я опустился на скамью напротив, так, чтобы видеть её профиль.
– Продолжай, – попросил я. – Мне интересно.
– Правда? – она приподняла бровь. – Главное, потом не жалуйся, что я усыпила тебя ботаникой.
Я чуть скривил губы в намёке на улыбку.
– Попробуй.
Она снова взглянула в книгу.
– Говорят, нефритовая лоза сама выбирает место, где появиться, – медленно прочитала она. – Её нельзя заставить, нельзя приручить. Можно только ждать, пока она решит расцвести. Редкая. Хрупкая. Таинственная. Цветущая в часы, когда мир спит. И ещё говорят, что нефритовая лоза появляется там, где переплетаются судьбы.
Она замолчала, пальцы чуть сильнее сжали края страниц.
Я смотрел на её руку и ясно понимал: в моём мире ничего хрупкого не бывает. Всё либо ломается, либо ломает. Но если что-то и подходило под эти строки, то только она.
– Похожа на тебя, – сказал я.
Она чуть дёрнулась, повернула голову.
– Цветок? – в голосе прозвучало лёгкое возмущение. – Ты серьёзно?
– Абсолютно, – я не отвёл взгляда. – Редкая. Хрупкая. Таинственная. Появилась там, где я меньше всего этого ждал. И, как назло, решила расцвести именно в моей ночи.
Она покачала головой, опуская взгляд обратно в книгу, но я видел, как участилось её дыхание.
– Я не хрупкая, – тихо возразила. – И не таинственная.
– Для мира – возможно, – ответил я ровно. – Для меня – ты мой свет.
В жизни, где слишком много крови и тьмы, ты единственная, от кого мне не хочется отводить глаза.
Она не сразу ответила. Страницы листать не стала, просто накрыла книгу ладонью, как крышкой. Некоторое время мы сидели молча, и мне в этой тишине было легче, чем на любых переговорах.
– Свет в твоей тьме, да? – наконец тихо спросила она, всё ещё глядя вниз.
– В моей – да, – я подался вперёд. – В чужой тьме я привык быть тем, кого боятся. Но рядом с тобой впервые в жизни захотелось не пугать, а держать. И не отпускать.
Она перевела на меня взгляд. Серьёзный, взрослый.
– А если я исчезну? – спросила. – Как этот цветок. Перестану светиться.
В груди что-то болезненно сжалось, но я не показал.
– Если ты исчезнешь, – сказал я спокойно, – я всё равно буду искать.
Даже если весь мир будет твердить, что тебя больше нет, я переверну каждый город, каждое дно. Буду поднимать могилы, лезть туда, куда не суются даже такие, как я. Буду возвращать тебя снова и снова. И не отпущу – ни при каких условиях.
Она тихо усмехнулась, но в глазах блеснула влага.
– Никогда? – уточнила. – Что бы ни случилось?
– Никогда, – повторил я. – Даже если ты исчезнешь, как эта чёртова лоза, которую считали вымершей, я всё равно найду.
Ты – моя нефритовая.
А своё я не теряю.
Она улыбнулась в ответ – мягко, по-настоящему, без защиты. И в тот момент я окончательно понял: если когда-нибудь мне придётся выбирать между этим городом и этой женщиной, город сгорит. Без сожалений.
Сейчас она лежала передо мной, в моей постели, под моим пледом, и всё это запросто могло бы оказаться очередным ночным кошмаром, ещё одной жестокой шуткой сознания, которое не умеет отпускать.
Но стоило мне провести пальцами по её волосам – осторожно, выделяя каждую прядь, – как я чувствовал под пальцами живое тепло, слышал её дыхание, улавливал знакомый запах её кожи. Не призрак. Не воспоминание. Реальность.
Я сел на край кровати, поставил бокал на тумбочку, наклонился ближе. Сердце упрямо билось где-то в горле. Год я смотрел на холодный камень с её именем. Год слушал одну и ту же версию – «её нет». Год жил как человек, у которого вырвали половину груди и забыли зашить.
А сейчас она дышала. У меня дома. После того, как я услышал из уст её отца правду, которую он сам боялся произнести. После того, как каждый кусок этого грёбаного пазла встал на место и показал, во что мы превратились из-за его решения «спасти» дочь от меня.
Я протянул руку, поймал тонкую светлую прядь, накрутил на палец. Провёл по ней большим пальцем, запоминая заново. Вгляделся в её лицо – наконец спокойное, без страха. И только тогда позволил себе эти слова. Тихо. Наполовину шёпотом, наполовину мыслью.
Это моя вина.
Каждый её страх.
Каждая трещина в душе.
Каждый шаг, который отдалил её от меня.
Но я не отступлю.
Я верну её.
Верну всё, что когда-то принадлежало мне.
И добьюсь того, чтобы она вспомнила…
чтобы простила…
чтобы снова выбрала меня.
Потому что она – моя.
И всегда была.
Я едва коснулся губами её лба, почувствовал тепло.
И впервые за год подумал не о том, кого мне нужно убрать завтра.
А о том, кого я обязан вернуть.
Любой ценой.
Глава 2
Прошлое
Хантер
Офис дышал тишиной.
Не той, что успокаивает, – плотной, вязкой, натянутой, как струна, готовая лопнуть. Стены будто впитали слишком много разговоров, угроз, договорённостей, и теперь молчали, наблюдая, не вмешиваясь.
За панорамным стеклом тянулся Манхэттен – огни, машины, нескончаемый поток людей, который я держал в кулаке, даже если половина города об этом только догадывалась. Нью-Йорк давно принадлежал Райтам. Сначала – отцу. Теперь – мне. И всем было абсолютно неважно, кто именно сидит в этом кресле, пока фамилия остаётся той же.
Я сидел за широким столом из тёмного дерева. Чистая поверхность. Ничего лишнего. Только документы, планшет, пара подписанных контрактов и пепельница с недокуренной сигаретой, которую я потушил на полпути.
Легальная часть империи выглядела безупречно: сеть отелей, клубы, элитные рестораны, казино, закрытые залы, куда обычным людям не попасть даже за большие деньги. Отчёты блестели, налоговая спала спокойно, партнёры жали руки и говорили нужные слова.
А за всем этим – то, ради чего вообще стоило держать город.
Оружие. Логистика. Маршруты. Люди.
То, что нельзя было записать в бухгалтерии, но без чего все эти стеклянные здания и красивые фасады превращались в картон.
Я никогда не лез в грязь, которой презирал. Торговля людьми, дешёвый наркотик, сутенёрство – всё это оставалось тем, кто не дорос до уровня Райтов. Мне нужны были потоки, которые дают рычаги. Власть. Контроль. Возможность решать, кто будет жить, а кто – нет.
Несколько лет назад отец окончательно сдал позиции. Усталость, возраст, кашель после каждого разговора дольше десяти минут. Однажды он просто вошёл в кабинет, положил на стол ключи, пару папок, старый пистолет и сказал:
– Ты готов.
И ушёл. Не умер, не исчез – просто ушёл в дом за пределами Манхэттена, к матери, туда, где тишина была уже не угрозой, а заслуженным покоем.
С тех пор Нью-Йорк лежал на мне.
Не на бумаге – в голове.
Каждый район.
Каждый человек, который хоть как-то касался наших денег.
Каждый, кто носил мою фамилию на языке – с уважением или со страхом.
И рядом со мной был один человек, которому я доверял так же, как себе,– Роман. Младший брат на пару лет, но иногда казалось, что по части лёгкости он младше на десять. Там, где я молчал, он усмехался. Там, где я ломал, он шутил. Но под этим – та же сталь. Тот же холодный расчёт. Только подан иначе.
Я пролистнул документы, отметил одну строку, задержался на ней взглядом. По городу уже пару недель ходили лёгкие слухи: кто-то слишком смело дёргался, проверяя, насколько крепко я держу поводья.
Имя всплывало одно и то же:
Роберт Миллер.
Старый, упрямый, амбициозный. Из тех, кто путает годы с авторитетом, а жадность – с силой. Его семья была крупной, но не настолько, чтобы качнуть город. Но он, похоже, решил проверить, правда ли новое поколение Райтов мягче старого.
Я усмехнулся краем губ.
Смешно.
Ещё смешнее было то, что в игру он тянул не только деньги и людей, но и дочь.
Эмили Миллер.
Я видел её много раз. На закрытых приёмах, на ужинах, переговорах. Всегда – в правильном платье, с идеальной укладкой, с улыбкой, отрепетированной перед зеркалом. И каждый раз – один и тот же сценарий: она искала повод оказаться рядом, что-то сказать, дотронуться до рукава, задержать взгляд чуть дольше, чем прилично.
Роберт, старый идиот, думал, что через её постель получит доступ к тому, до чего руками не дотягивался.
Я провёл пальцами по виску.
Даже если бы я решил развлечься – это ничего бы ему не дало.
Я не раздаю доступ к власти за ночь в кровати.
Мой мир так не работает.
Щёлкнула дверь.
Без стука, конечно.
– Ты занят? – голос Романа не спрашивал, а констатировал: «Я всё равно зайду».
Я поднял глаза. Он стоял, прислонившись к косяку, руки в карманах, на лице – та самая лёгкая ухмылка, с которой он обычно приносит новости, от которых у нормальных людей холодеет спина, а у нас – только яснее становится голова.
– Относительно, – ответил я. – Чего тебе?
– Напомнить, что у тебя сегодня социальная каторга, – он отлип от дверного косяка, зашёл внутрь, уселся в кресло напротив, как у себя дома. – Благотворительный вечер. Мэр, его друзья, половина города. Вторая половина будет делать вид, что была. Если мы не появимся, все эти трусливые крысы решат, что с нами можно обсуждать «уважение».
Я тихо выдохнул.
– Забыл? – в голосе уже слышалась усмешка.
– Игнорировал, – уточнил я. – Есть разница.
– А я, значит, явился сюда как ходячее напоминание твоих социальных обязанностей, – Роман театрально приложил руку к груди. – Представляешь, до чего ты меня довёл?
Я посмотрел на него, не меняя выражения лица.
– Хочешь сказать, ты скучал по смокингу.
– Ага, особенно по этим кислым «благодарным» рожам, – он фыркнул. – Но, признай, есть в этом вечере и развлечение: мэр будет расплываться перед тобой, как масло на горячей сковородке, а Миллер снова подтолкнёт свою дочку поближе – вдруг в этот раз повезёт.
– Если она упадёт, – сказал я ровно, – я просто отойду. Пусть бьётся сама.
Роман рассмеялся низко, по-мужски, на выдохе.
– Ты – кошмар любого брачного агентства, – протянул он. – Женщины Манхэттена должны получать надбавку за риск при виде тебя.
– Кто не понимает простых правил – сам виноват, – ответил я.
– Согласен, – он лениво поднялся. – Ладно, пошли, монстр. Будем делать вид, что мы тоже люди.
Я посмотрел на часы.
Время подошло.
– Посмотрим, насколько сильно мне сегодня захочется уйти через чёрный ход, – поднялся из-за стола.
– Не волнуйся, – Роман хлопнул меня по плечу. – Если захочется – я придумаю уважительную причину. В крайнем случае, устрою ложный вызов: «Ваш склад внезапно загорелся, мистер Райт».
Я чуть скривил губы в подобии улыбки.
– Ты слишком любишь театр.
– Зато ты слишком любишь молчать, – парировал он. – Баланс, брат.
Мы вышли из офиса.
У входа в отель уже скапливалась нужная публика. Наши охранники и городские стояли плотной линией. При нашем появлении они выпрямляли спины автоматически, опускали взгляды. Прямой взгляд на Райта без приглашения всегда считался вызовом. За вызовы в этом городе платили дорого.
Чёрные машины остановились у широкого крыльца.
Роман вышел первым. Расправил плечи, легко, вальяжно, но я видел, как считывает глазами каждое лицо, каждое движение, каждое напряжение в толпе. За его ухмылкой всегда шёл расчёт.
Я вышел следом.
Воздух был насыщен тем же коктейлем, что и на всех подобных мероприятиях: дорогой парфюм, алкоголь, нервное потоотделение. Вечера этого уровня всегда пахли одинаково – ложью, смешанной со страхом.
– Ты всё ещё можешь развернуться, – вполголоса заметил Роман, пока мы поднимались по ступеням. – Сказать, что тебе срочно нужно вырезать чью-то семью в Бруклине. Звучит даже правдоподобнее, чем благотворительность.
– Поздно, – ответил я. – Нас уже видят.
– Печально, – протянул он. – Я до последнего надеялся, что у тебя проснётся инстинкт самосохранения и ты пошлёшь весь этот балаган к черту.
– Поэтому ты весь день напоминаешь о вечере? Из заботы?
– Из вредности, – честно признался он. – Кто-то же должен смотреть, как ты мучаешься.
Я не ответил.
В последнее время я вообще редко позволял себе роскошь лишних слов.
Мы вошли в зал.
Музыка – чуть громче, чем нужно. Смех – чуть фальшивее, чем должен быть у людей, которые «отдыхают». Звон бокалов, разговоры, шепотки. И под всем этим – та самая тишина. Осознанная. Напряжённая.
Я чувствовал, как за считанные секунды меня заметили почти все. Мужчины замедляли шаг, кто-то невольно выпрямлял спину. Женщины чуть касались своих спутников за локоть – будто проверяя, куда те смотрят.
Одного моего взгляда в сторону правой части зала хватило, чтобы там одновременно стало свободнее. Люди инстинктивно раздвигались, освобождая пространство.
Нью-Йорк давно усвоил одну простую вещь: пока я здесь – правила не меняются.
– Смотри, – тихо произнёс Роман, почти не шевеля губами. – Идёт твоя поклонница по принуждению.
Эмили Миллер двигалась в нашу сторону осторожно, как по льду. Платье – идеальной посадки, волосы – в правильных локонах, помада – яркая, но «со вкусом». Лицо натянуто в попытку улыбки. В глазах – то самое, что я видел слишком часто: страх, перемешанный с надеждой не подвести того, кто стоит за спиной.
Она остановилась на расстоянии вытянутой руки.
– Мистер Райт… – голос дрогнул. – Рада видеть вас.
Она подняла руку. Медленно, как будто каждый сантиметр приближения нужно было согласовать с высшими силами. Кончиками пальцев коснулась моей кисти – нерешительно, будто проверяла, не укушу ли.
Я перехватил её запястье и аккуратно отвёл в сторону.
– Не прикасайся ко мне, Эмили.
Она вздрогнула. Губы побледнели, взгляд дёрнулся.
– Я… не хотела… я только…
– Хватит, – я отпустил её так же спокойно, как взял. – Если твоему отцу нужен разговор – он знает, где меня найти. Ты здесь ни при чём.
Её лицо вытянулось.
Она шагнула назад, едва не запутавшись каблуком в ковре, и почти бегом ушла в сторону.
Роман тихо усмехнулся.
– Ты – кошмар всех папаш, – заключил он. – Они готовы отдать половину бизнеса, лишь бы их дочерей к тебе хоть как-то приблизили, а ты их одной фразой обратно в вакуум отправляешь.
– Я здесь не для этого, – сказал я.
– Знаю, – он прищурился. – Ты здесь, потому что так проще держать в узде тех, кто очень хочет забыть, кому принадлежит город.
– И это тоже, – не стал отрицать я.
– Ладно, – Роман повёл плечом. – Я за выпивкой. Тебе как всегда? Или по степени мрака подбирать?
– Нормальное виски. Без экспериментов.
– Значит, сегодня ты добрый, – пробормотал он и растворился в толпе.
Я остался один.
Хотя слово «один» к моей жизни давно не подходило. Вокруг всегда были люди – свои, чужие, враги, союзники, те, кто хотел быть ближе, и те, кто молился, чтобы я никогда на них не посмотрел.
Один я мог быть только внутри.
Ко мне подходили по очереди. Слова сливались в одинаковый шум.
«Мистер Райт, честь…»
«Если вы найдёте минуту…»
«Мы так высоко ценим ваше влияние…»
Я кивал там, где нужно, произносил короткие ответы, которых достаточно, чтобы человек не чувствовал себя полностью стертым, но и не строил иллюзий.
Мэр объявился быстро. Его самодовольная физиономия в один миг растаяла в услужливости.
– Мистер Райт! – ладони его слегка дрожали. – Ваше присутствие… огромный знак…
– Хороший вечер, – коротко сказал я. – Удачи.
Этого хватило, чтобы он практически поклонился и отступил, освобождая пространство.
Я повернул голову – и в тот момент увидел её.
Не сразу целиком – сначала движение. Мягкое. Неспешное.
А потом – картину целиком.
В дальнем конце зала, чуть в стороне от основной массы, стояла женщина. В светлом вечернем платье, открытые плечи, тонкая линия шеи, волосы, собранные так, что оголяли затылок, подчёркивая его хрупкость. Свет ложился на них мягкой линией.
Но дело было не в платье и не в шее.
Она стояла у декоративного растения – того самого, которое поставили сюда исключительно ради картинки. Огромный горшок, пышная зелень, несколько длинных стеблей. Украшение. Декорация, которой в норме никто бы не уделял и двух секунд.
Она – уделяла.
Я видел, как она аккуратно сняла сухой лист.
Потом ещё один.
Пальцами проверила почву.
Не боялась испачкать руки. Не смотрела по сторонам, не выискивала взглядов. Весь её мир в этот момент был сосредоточен на растении.
Она чуть нахмурилась.










