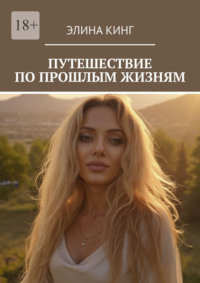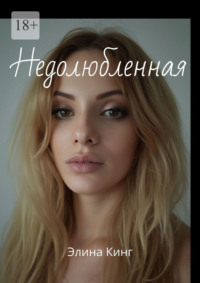Полная версия
Тень забытой розы. 900 лет он ждал её реинкарнацию

Тень забытой розы
900 лет он ждал её реинкарнацию
Элина Кинг
© Элина Кинг, 2025
ISBN 978-5-0068-7053-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Прах памяти
Он помнил всё. Помнил шелковистый шепот её платья по каменным плитам замка, шорох, громче для его чуткого слуха, чем рык медведя в лесу. Помнил запах её кожи – смесь лаванды, солнечного тепла и чего-то неуловимого, чисто её, словно аромат первой весенней фиалки, пробивающейся сквозь снег. Помнил, как горели её карие глаза в свете факелов, когда она слушала его рассказы о звёздах, которые он наблюдал столетиями. И помнил звук. Звук её сердца, прервавшийся под когтями того, кого он когда-то назвал братом.
Алойэс, Граф Ночных Земель, Повелитель Пепла и Теней, переживший империи и падение королей, сидел в своём кресле у холодного камина и был лишь сосудом, полным боли. Девятьсот лет. Девять столетий бесконечных, одинаковых ночей. Он пил, но кровь была безвкусной пылью. Он владел землями, но они были пусты. Он говорил на мёртвых языках с мёртвыми же учёными в своих библиотеках, и их мудрость была пеплом на языке.
Его замок, неприступная готическая громада, спрятанная в сердце нынешних Карпат завесой колдовских миражей, был не жилищем, а саркофагом. Здесь всё хранило её отпечаток: заброшенная беседка в саду, где она вышивала; фреска с изображением охоты, к которой она прикоснулась, оставив едва заметный след; её комната, запечатанная и нетронутая, где в хрустальной шкатулке лежала засохшая роза – последняя, что он ей подарил.
Он перестал искать её реинкарнацию после первого столетия. Души, как учили древние манускрипты, возвращаются. Но они возвращаются иными, обёрнутыми в новую плоть, новые воспоминания, новые жизни. Что он найдёт? Тень? Отзвук? Это было бы хуже, чем вечное забвение. Это было бы насмешкой. И он не мог рисковать: его природа, голод, тьма внутри – они могли погубить её снова, случайно, одним лишь неверным взглядом. Нет, лучше носить эту агонию, как вериги, лучше быть одинокой скалой в реке времени.
Но однажды ночью, в ночь, ничем не примечательную, если бы такое понятие вообще имело для него смысл, случилось нечто. Он, как часто бывало, наблюдал за миром смертных через магический артефакт – зеркало, показывающее не отражение, а далёкие места. Его взгляд, скучающий и отрешённый, скользнул по огням современного города где-то в Центральной Европе. Бар. Шум, цветные огни, молодость, тратящая себя впустую. Он уже хотел отвести взгляд, когда увидел её.
Она сидела за стойкой, смеясь с подругой. Другое лицо – более округлое, с короткими тёмно-каштановыми волосами, украшенными синей прядью. Другой стиль: кожаная куртка, простые джинсы. Но поворот головы. Но ямочка на щеке, когда она улыбалась. Но ритм. Ритм, с которым она постукивала пальцами по стеклу, абсолютно идентичный тому, с которым Элиана барабанила по дубовому столу девять веков назад.
В его древнем, мёртвом сердце что-то ёкнуло. Не биение, а вспышка, ослепительная и болезненная, как удар серебра по коже. Он замер. Всё его существо, вся его вековая тоска сфокусировалась на этом образе. Он не верил. Он не смел верить. Но его рука, всегда твёрдая, дрогнула и коснулась стекла зеркала, словно он мог прикоснуться к её щеке.
«Элиана…» – имя, которое он не произносил вслух сотни лет, сорвалось с его губ шёпотом, полным крови и слёз, которых он не мог пролить.
Пробуждение эха.. Изабель чувствовала себя чудачкой. У неё была хорошая жизнь в Праге: работа графическим дизайнером, друзья, иногда даже свидания. Но с детства её преследовало чувство… ожидания. Как будто она ждала звонка, который никогда не раздавался. Её тянуло к старинным вещам: она могла часами бродить по музеям, и её странно трогали простые предметы – средневековые кубки, вышивка, засохшие цветы в книгах. А ещё сны. Сны о высоком замке, о запахе дыма и лаванды, о чьих-то глазах цвета тёмного янтаря, смотрящих на неё с такой тоской, что она просыпалась с щемящей болью в груди.
И вот этот мужчина.
Он появился в её жизни постепенно, почти незаметно. Сначала как новый клиент – эксцентричный аристократ, заказавший дизайн экслибриса для своей личной библиотеки. Потом как случайный собеседник в той же кофейне, где она работала над проектами. Он представлялся Алоизом фон Дорном, наследником старинного, но обедневшего рода. Он был невероятно красив в своей строгой, вневременной элегантности. Его чёрные волосы были собраны в небрежный узел, а лицо казалось высеченным из мрамора – идеальным и холодным. Но глаза… глаза были живыми. В них горел странный, глубокий огонь, который одновременно притягивал и пугал.
Он был невероятно начитан, знал мельчайшие исторические детали, о которых не писали в учебниках. Говорил на идеальном чешском, но с едва уловимым, неузнаваемым акцентом. Он смотрел на неё не так, как смотрели другие мужчины. Его взгляд был изучающим, почти болезненно внимательным, словно он читал в её душе старую, полузабытую книгу.
«Вы когда-нибудь чувствовали, Изабель, что жили раньше?» – спросил он как-то вечером, когда они обсуждали эскиз у камина в его отеле (он всегда выбирал номера с каминами, даже в современных отелях).
Она вздрогнула. «Иногда. Глупо, да?»
«Ничего, исходящее из глубин вашей души, не может быть глупым», – произнёс он мягко, и его голос, низкий и бархатный, обволок её, как тёплое покрывало. «Иногда память предков, память крови… или память сердца – она остаётся. Как шрам на невидимом теле души».
Он начал дарить ей странные, старомодные подарки. Не драгоценности, а безделушки: старинное серебряное зеркальце, пергаментную карту созвездий, книгу стихов на старофранцузском. И каждый раз, когда она брала их в руки, её охватывало головокружительное чувство дежавю. Она знала вес этого зеркальца. Она видела эти звёзды с высокой башни. Она слышала эти стихи, нашептываемые на ухо в полутьме.
Алойэс, наблюдая за ней, жил в аду надежды. Каждая её улыбка была и бальзамом, и ядом. Она была ею – той же душой, тем же светом, той же манерой морщить нос, задумываясь. Но она была и другой – современной, свободной, не знающей ужаса ночи. Он жаждал раскрыться, упасть перед ней на колени, рассказать всё. Но страх был сильнее. Страх спугнуть. Страх увидеть в её глазах ужас, отторжение. И главное – страх своего собственного голода. Близость к ней, её живой, пылающий жаром кровь жизненной силой, была для него невыносимым искушением и невыразимой мукой. Он, древний вампир, дрожал от желания не укусить, а просто обнять её, вдохнуть её запах, и боялся, что даже это может навредить.
Однажды он пригласил её в загородный дом – на самом деле одно из его древних владений, тщательно замаскированное под особняк XIX века. Там, в библиотеке, Изабель наткнулась на портрет. Портрет молодой женщины в платье эпохи Возрождения, с её ямочкой на щеке и её глазами. В её руках была роза.
«Кто это?» – спросила Изабель, чувствуя, как у неё перехватывает дыхание.
Алойэс замер у камина, его спина была напряжена. «Далекая родственница. Элиана», – произнёс он так тихо, что она едва расслышала.
«Она… она похожа на меня».
«Да», – его голос прозвучал хрипло. «Очень».
И в тот момент, глядя на его профиль, освещённый огнём, Изабель вспомнила. Не чётко, не картинкой, а потоком ощущений. Тепло его руки (тогда тёплой) на своей; запах его кожи – не одеколона, а кожи, смешанной с запахом старых книг и ночного ветра; вкус вина и поцелуя; и затем – пронзительный, животный ужас, крик, боль, и всёпоглощающая тьма.
Она вскрикнула и отшатнулась, опрокинув вазу. Алойэс мгновенно был рядом, но не решаясь прикоснуться.
«Что случилось?»
«Я…я не знаю. Мне показалось…» Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, и в них теперь был не просто интерес, а щемящее узнавание, смешанное со страхом. «Я вас знаю. Откуда-то… из давнего кошмара».
Он понял, что игра окончена. Правда, как хищный зверь, вырвалась на свободу. И он больше не мог её удерживать.
Часть третья: Любовь сквозь века и смерть
Он рассказал ей всё. Сидя в том самом кресле, глядя в пустоту камина, он изливал девять столетий отчаяния. О своей жизни, о смерти, о превращении. О любви, вспыхнувшей, как сверхновая, в мрачное время его бессмертия. О предательстве и потере. О веках пустоты. И о том, как он нашёл её снова.
Изабель слушала, ошеломлённая. Разум её кричал, что это безумие, бред, игра больного воображения. Но её сердце… её сердце знало. Каждое его слово отзывалось в ней глухим эхом правды. Эти сны, это тяготение к прошлому, это необъяснимое доверие к нему с первой встречи. Всё складывалось в жуткую, невозможную мозаику.
«Значит, я… она… умерла? Из-за вас?» – выдохнула она.
«Из-за мира, частью которого я был», – поправил он, и в его глазах стояла такая бездонная боль, что ей захотелось обнять его, несмотря на страх. «Я не сберёг тебя. Это была моя величайшая и единственная истинная ошибка за всю эту бесконечную жизнь».
Она сбежала той же ночью. Ей нужно было время, пространство, обыденность. Но обыденность теперь казалась плоской картинкой. Весь мир потерял краски после того, как она заглянула в бездну вечности. Она пыталась вернуться к нормальной жизни, но тщетно. Её преследовали всё более яркие воспоминания: смех Элианы, тихие беседы, обещания, данные под сенью звёзд. И его глаза – тогда полные жизни и любви, а теперь полные той же любви, но изуродованной веками страдания.
Алойэс не преследовал её. Он ждал. Как ждал все эти столетия. Но теперь в ожидании была жестокая надежда.
Изабель вернулась через неделю. Стояла под дождём у дверей его отеля, мокрая, дрожащая, с решимостью в глазах.
«Я помню не только смерть, – сказала она, едва он открыл дверь. – Я помню жизнь. Я помню любовь. Она была настоящей, да?»
«Настоящей, как ничто иное во всех мирах», – ответил он, не смея дышать.
«И она… всё ещё здесь?»
Он медленно, словно боясь спугнуть дикую птицу, протянул руку и коснулся её щеки. Холод его пальцев заставил её вздрогнуть, но она не отстранилась.
«Она никогда не уходила. Она была моим единственным светом в вечной тьме».
Они не стали пытаться повторить прошлое. Они начали писать настоящее. Сложное, опасное, невозможное. Он учился контролировать свою природу рядом с ней так, как никогда не делал прежде. Его голод отступил перед силой иного, более древнего чувства. Она же училась жить с правдой о себе, о нём, о хрупкости своей человеческой жизни в тени его бессмертия.
Однажды ночью, в саду его замка, куда он наконец привёз её, она сорвала розу с того самого куста, что рос там девятьсот лет. Куст, который он сохранял магией, сквозь морозы и бури.
«Я не Элиана, – сказала Изабель, глядя на алый бутон. – Я Изабель. У меня есть своя жизнь, свои воспоминания, свои мечты. Я не хочу быть тенью из твоего прошлого».
«Ты ею и не будешь, – прошептал он, смотря, как лунный свет играет в её волосах. – Ты – моё будущее. Единственное, ради которого я готов снова смотреть на рассвет, даже если он для меня опасен».
И когда она подняла на него глаза, в них уже не было страха. Была любовь. Новая, старая, прошедшая через смерть и время, хрупкая, как лепесток розы, и вечная, как звёзды над их головами. Он обнял её, и в этом объятии не было жажды вампира. Была лишь тоска изгнанника, нашедшего, наконец, свой дом. Душу, которая, спустя девятьсот лет, отозвалась на его зов сквозь тьму веков.

Ткань из прошлого и настоящего
Их сосуществование было хрупким, как первый осенний ледок на пруду. Изабель вернулась в свою квартиру в Праге, но город теперь казался ей театральной декорацией – яркой, шумной и нереальной. Запах кофе с корицей, гул трамваев, смех друзей в баре – всё это отскакивало от неё, не задевая. Внутри поселилась тишина, и в этой тишине звучало эхо: шепот платья по камню, скрип пергамента, голос Алойэса, каким он был тогда – теплый, живой, без той ледяной глубины, что сквозила в нем сейчас.
Она пыталась отрицать. Сходила к психотерапевту, говорила о кризисе идентичности, навязчивых снах. Прописали легкие седативные. Таблетки делали сны туманнее, но чувство тоски – острее. Как будто она заглушала не симптомы, а саму себя.
Алойэс не звонил. Не писал. Он дал ей пространство, как обещал. Но его молчание было красноречивее любых слов. Оно говорило: «Я ждал девятьсот лет. Подожду ещё сколько потребуется». Эта мысль сводила её с ума.
Перелом наступил в Национальной библиотеке. Изабель, в попытке «заземлиться», взялась за заказ по оформлению каталога старинных гравюр. Перед ней лежала подборка работ неизвестного мастера середины XVI века, условно названного «Мастером Лунного Света». Изумительная детализация, игра с тенью и перспективой. На одной из гравюр, изображавшей сцену охоты на оленя в лесу, в нижнем углу она разглядела едва заметный герб – стилизованную розу, обвитую колючей лозой, и полумесяц над ней. И подпись, не на латыни, а на странном диалекте, который она… узнала.
Её пальцы сами потянулись к листу бумаги, и, не отдавая себе отчета, она начертала пером перевод: «Для Э., чей свет затмевает луну. A.»
Сердце заколотилось, в висках застучало. Она подняла глаза на библиотекаря.
– Этот герб… Вы знаете, что он означает?
– Частный знак мастера, вероятно. Владетельный дом, может быть. Таких сотни потерялись в истории, – пожал плечами тот.
– А где… где были найдены эти гравюры?
– В коллекции графа фон Дорна. Он предоставил их для оцифровки.
Всё встало на свои места. Он не просто ждал. Он окружал её собой, своим прошлым, своей историей, как незаметной паутиной. И она уже была в ней.
Она приехала в замок без предупреждения. Машина такси, напуганная видом ущелья и старой, казалось бы, заброшенной дороги, высадила её у подножия горы. «Дальше не поеду, фрейлейн, тут места нехорошие». Изабель шла пешком по извилистой тропе, и с каждым шагом ощущение дежавю нарастало. Вот тот поворот, за которым открывался вид на долину. Вот корявый дуб, в дупле которого они в шутку когда-то оставили записку. Она остановилась, сунула руку в холодное, сырое дупло. Конечно, ничего. Прошло девять веков.
Завеса миражей сработала для неё – или позволила сработать. Одна минута – перед ней скала и дремучий лес, следующая – чёрные, устремлённые в свинцовое небо шпили замка Дорнштадт. Он стоял, неприступный и молчаливый, и от него веяло таким бесконечным одиночеством, что у Изабель сжалось горло.
Дверь, огромная, дубовая, с железными накладками, отворилась сама, без скрипа. В проёме стоял он. Без пальто, в простой темной рубашке и брюках, босой. Он выглядел не как граф, а как тень, застигнутая врасплох рассветом.
– Ты пришла, – сказал он, и это не было вопросом.
– Я не могла не прийти. Ты повсюду.
Он отступил, пропуская её внутрь. Холл был огромен, освещён не электричеством, а холодным, магическим сиянием шаров, парящих под потолком. Воздух пах пылью, старым камнем, сушёными травами и… лавандой. Все те же запахи из её снов.
– Я не преследовал тебя, – тихо произнёс Алойэс.
– Я знаю. Ты просто… существуешь. И твоё существование меняет всё вокруг. Как чёрная дыра, которая незаметно искривляет пространство.
Он вздрогнул, и на его лице мелькнула боль.
– Уместное сравнение.
– Я не хотела ранить тебя.
– Ты не можешь ранить меня сильнее, чем это уже сделала реальность, – он подошёл к камину, где, как и в отеле, пылал огонь. Ему, существу холода, очевидно, нравился его вид. – Зачем ты пришла, Изабель?
– Потому что «Мастер Лунного Света» – это ты. Потому что ты подарил мне зеркало, которое я разбила в прошлой жизни, уронив с балкона. Потому что ты смотришь на меня так, будто я – призрак, и в то же время – единственная реальность. Я схожу с ума. И мне нужны ответы. Все.
Он долго смотрел на огонь.
– Хорошо, – наконец сказал он. – Но будь осторожна со своими желаниями. Правда – не всегда лекарство. Иногда она – яд, к которому нужно выработать иммунитет.
Он провёл её не в гостиную, а вниз, по винтовой лестнице, глубоко под замок. В склеп. Но не склеп для мёртвых. Здесь, в нишах, хранились не гробы, а предметы. Её платье. Её туфля. Потёртый том стихов. Засохший букет полевых цветов. Разбитая керамическая чашка, склеенная золотым лаком – искусство кинцуги. И картина. Портрет Элианы, написанный им самим. Не парадный, а интимный: она сидит у окна, задумавшись, и первый луч утреннего солнца касается её щеки.
Изабель подошла к портрету. Рука сама потянулась к лицу на холсте.
– Я помню этот день, – прошептала она. – Ты злился, что я встала так рано. Говорил, что я лишаю тебя последних часов темноты.
– А ты сказала, что хочешь разделить с тобой рассвет, – его голос прозвучал прямо за её плечом. – Чтобы я помнил, как выглядит свет.
Она обернулась. Он стоял так близко. Его глаза в полумраке склепа светились мягким золотым свечением, как у крупного хищника.
– Как я умерла? По-настоящему. Расскажи.
Алойэс закрыл глаза, словно переживая всё снова.
– Мой брат, Казимир, был как я. Но он всегда любил охоту больше, чем добычу. Он наслаждался страхом, игрой. Он увидел тебя… увидел, как ты светишься для меня. И для него это стало вызовом. Не из мести, нет. Из спортивного интереса. Сможет ли он погасить этот свет? Сможет ли он заставить меня, старшего и сильнейшего, потерять контроль? Он напал на тебя в нашей же спальне, когда я был далеко, на другом конце наших земель. Связал тебя магией, чтобы ты не могла кричать… и терзал, не убивая, растягивая момент, наслаждаясь. Он хотел, чтобы я почувствовал твою агонию через нашу кровную связь. И я почувствовал.
Алойэс говорил ровно, без эмоций, но каждый его звук был ледяной иглой.
– Я рванулся назад. Промчался сотни миль за ночь. Но когда я ворвался в комнату… он уже почти закончил. Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Смотри, брат. Как хрупка твоя маленькая заря». И вонзил коготь тебе в сердце. Не для того, чтобы убить сразу. А чтобы я успел подбежать. Чтобы я держал тебя на руках, пока жизнь утекала. Ты посмотрела на меня… и улыбнулась. Шёпотом сказала: «Не впускай тьму, мой любовник. Ищи меня… в свете».
Он открыл глаза. В них стояла сухая, вековая мука.
– Я впустил тьму. Всю, какую смог. Я уничтожил Казимира в ту же ночь. Но это не вернуло тебя. Это лишь оставило во мне пустоту, которую не могла заполнить даже месть.
Изабель слушала, и её тело помнило. Где-то в глубине тканей, в памяти клеток, отозвалась тупая, разлитая боль. Она не плакала. Слёз не было. Было холодное, ясное понимание.
– И теперь… он вернулся?
Алойэс нахмурился.
– Почему ты так решила?
– Потому что логично. Если души возвращаются… возвращается и зло. Ты чувствуешь его?
Он медленно кивнул.
– Последние десятилетия… да. Эхо знакомой жестокости в новостях из разных уголков мира. Следы, которые ведут в никуда. Он слабее меня, он боится. Но он хитер. И если он узнал о тебе… – Он не договорил, но итог висел в воздухе между ними.
– Значит, я не в безопасности, – констатировала Изабель.
– Нигде в этом мире.
– Но здесь? С тобой?
Он посмотрел на неё с бездонной нежностью и бесконечной скорбью.
– Здесь – опаснее всего. Я – магнит для всей тьмы, что ходит по земле. И я… я сам являюсь для тебя угрозой каждый момент. Даже сейчас, глядя на твою шею, на пульс, бьющийся у виска… я должен сдерживаться.
– А если я попрошу тебя не сдерживаться?
Тишина в склепе стала абсолютной. Даже пламя факелов, казалось, замерло.
– Что ты говоришь? – его голос стал опасным шёпотом.
– Я говорю, что я смертна, Алойэс. У меня есть, может быть, лет шестьдесят. У тебя – вечность. Я умру. Состарюсь, одряхлею, и ты будешь наблюдать за этим. Или… – она сделала шаг к нему. – Ты можешь дать мне шанс. Шанс быть с тобой не как хрупкий цветок в вазе, а как… партнёр. Равный. В силе, если не во времени.
– Ты хочешь стать темной? – в его голосе прозвучал ужас. – Ты не понимаешь, что это. Это не романтичная вечная жизнь. Это жажда, которая жжёт изнутри. Это солнце, становящееся врагом. Это видение того, как стареют и умирают все, кого ты мог бы полюбить. Это проклятие, Изабель!
– Большее проклятие, чем знать, что любовь всей твоей жизни где-то там, и ты обречён её снова потерять? – парировала она. – Я не Элиана. Она была светлой, наивной. Она боялась твоей ночной стороны. Я… я вижу её. И я принимаю. Всю. И тьму тоже.
Он отвернулся, сжав кулаки. Сухожилия на его руках выступили белым мрамором.
– Нет. Я не позволю. Я не превращу тебя в монстра.
– А я не прошу разрешения, – сказала Изабель твёрдо. – Я информирую. Я изучаю этот вопрос. Ритуалы, условия, последствия. Я не буду действовать сломя голову. Но я и не буду сидеть сложа руки, ожидая, когда Казимир или время сделают со мной то, что они хотят. Я выбираю сама.
Впервые за девятьсот лет Алойэс фон Дорн почувствовал не тоску, не боль, а яростную, безумную гордость. Эта женщина, эта реинкарнация его хрупкой Элианы, была сделана из иного теста. В ней была сталь. Сталь, которую, возможно, выковали те самые девять веков его страданий, будто душа, готовясь вернуться, закалялась в горниле его тоски.
– Ты невыносима, – прошептал он, и в его голосе прозвучал смех, хриплый от неиспользования.
– А ты невыносимо упрям, – ответила она, и тень улыбки тронула её губы. – Похоже, у нас впереди не только любовь, но и долгие, серьёзные споры.
Он обернулся и посмотрел на неё – не как на призрак прошлого, а как на человека. На Изабель. С её современным упрямством, с её болью, с её бесстрашным сердцем, готовым принять всю его тьму, лишь бы не расставаться.
– Хорошо, – сказал он. – Ты останешься здесь. Научишься защищаться. Изучишь нашу историю, нашу слабость и нашу силу. Но о превращении… ни слова. Пока. Дай мне время привыкнуть к мысли, что ты… что ты борешься за нас. Так, как не боролась ни одна смертная.
Он протянул руку. Не для поцелуя, не для объятия. Просто ладонью вверх. Жест доверия. Жест равенства.
Изабель положила свою руку в его. Его ладонь была холодной, но в её пальцах больше не было дрожи страха. Была решимость.
– Договорились, – сказала она. – С чего начнём?
Он сжал её пальцы, и в его глазах вспыхнул тот самый огонь, который она помнила из снов – не холодный свет вампира, а тёплый, живой огонь учёного, воина, человека, который наконец-то увидел не конец, а начало.
– С библиотеки, – сказал Алойэс. – Всё, что я знаю о Казимире, его слабостях, его методах. И всё, что я знаю о реинкарнациях. Пришло время перестать бояться прошлого и начать использовать его как оружие.
И он повёл её вверх, из склепа памяти, в высокие залы замка, где ряды бесценных фолиантов хранили не только знание, но и ключ к их общему будущему. Впереди были уроки магии для смертных, тренировки с холодным оружием, изучение древних языков и постоянная, изматывающая борьба Алойэса с собственной природой рядом с ней.
Но впервые за девятьсот лет в замке Дорнштадт поселилась не тишина забвения, а напряжённое, живое биение двух сердец, решивших бросить вызов самой судьбе. И где-то в тени, далеко за пределами гор, древнее, хищное зло почуяло знакомый, ненавистный свет и сладкий запах давней мести. Охота, прерванная на рассвете веков, была готова начаться снова.

Память, вытканная из боли
Сны перестали быть снами. Они стали туннелями, порталами, разрывами в ткани реальности. Изабель ложилась спать в современной кровати под мягким пуховым одеялом, а просыпалась от собственного крика, вцепляясь пальцами в грубый холст простыней, пахнущих дымом и травами. Она не вспоминала – она проваливалась.
Запах. Это было первым и самым коварным. Запах воска и пыли в библиотеке замка вдруг сменялся густым ароматом горящего камина из грушевых поленьев и чего-то сладкого – медового пряника, который пекла старая Марта. Она оборачивалась, ожидая увидеть дородную женщиу в льняном чепце, но перед ней были лишь ряды старинных фолиантов в современной библиотеке Праги. Запах сводил с ума, вызывая тошнотворную, сладкую тоску под ложечкой.
Прикосновения. Она могла мыть посуду, и вдруг её запястье пронзала память – твёрдое, тёплое касание больших мужских рук, застёгивающих пряжку на тонком ремешке её браслета. Рук Алойэса, когда они были живы и полны крови. Она роняла тарелку, и звон разбитого фарфора сливался в её сознании со звоном разбитого кубка на каменном полу зала девятьсот лет назад. Её кожа голодала. Не по ласкам, а по тому конкретному прикосновению. По текстуре его ладоней – не холодных и идеально гладких, как сейчас, а живых, со шрамом от соколиной перчатки на сгибе большого пальца. Она ловила себя на том, что трёт собственное запястье, пока кожа не краснела, пытаясь вызвать хоть эхо того ощущения. Это было физической ломкой.