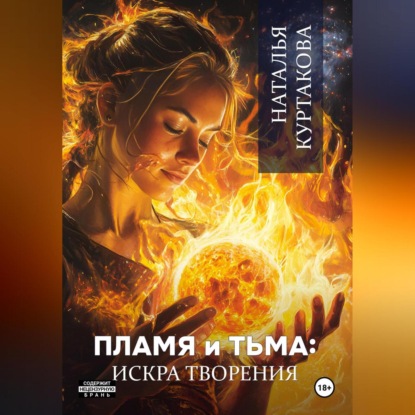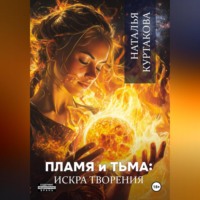Полная версия
Пепел и Прах
«Будь она простой женщиной из таверны, я бы все равно не смог отвести глаз, – мелькнула у него мысль. Но именно эта легкость, эта насмешка над опасностью… Она знает, что сильнее меня в своем истинном обличье. И играет на этой грани.»
Ее серебристый смех, чистый и леденящий душу, звенел над опустошенной землей.
Ханара пронзили ледяные иглы вопросов: Откуда этот конь? Что за маскарад? Почему она смеется? Нашли ли они, наконец, сферул? Мгновения, пока спутники приближались, растянулись в вечность. Гнев, старый союзник, поднялся из глубин его существа.
Од ловко спрыгнул с коня, его практичная одежда была покрыта пылью руин. Укуфа же, усмехнувшись, дала шпоры своему жеребцу, заставив его взвиться на дыбы, прежде чем изящно соскользнуть на землю. Ханар проигнорировал это представление, его взгляд впился в Ода.
– Нашли?
– Прости, но нет, – ответил Од, и в его голосе звучало искреннее сожаление. – Мы обыскали все. Каждый камень. Ни следа…
– Ох, Одди… – рассмеялась Укуфа, поправляя корону. – Не лги нашему господину. Я заглянула в каждую щель. А ты? Увидел летучую мышь в руинах и подпрыгнул, как испуганный котенок! – Она с легкостью повисла на плече ближайшего трайтера, ее пальцы скользнули по холодному металлу его наплечника. – Вы просто не представляете, Ваше Величество, это было так…
– МОЛЧАТЬ! – взревел Ханар.
Его крик был нечеловеческим. Кожа на лице натянулась, обнажив резкие черты. На мгновение в его облике проступило что – то хищное, птичье. В глазах вспыхнул дикий огонь.
– Довольно! – Он шагнул к Укуфе, и теперь они стояли почти вплотную. Она не отпрянула, лишь приподняла подбородок, и в ее глазах вспыхнул озорной, опасный огонек. – Сферул! Где он?! Ты нашла его?!
– Нет, Ваша Милость, – ответила она с преувеличенной невинностью, играя с ним, как кошка с мышью. – Я нашла лишь эту безделушку, – она указала на корону, – да коня. Но сферул? Ни единой пылинки.
– Тогда… – голос Ханара стал опасным шепотом, – …откуда этот хохот? Эта дурацкая корона? И откуда ты взяла этого жеребца?
– Ах, это… – Укуфа томно потянулась, и платье цвета запекшейся крови обтянуло ее гибкий стан.
– Пока Одди боялся мышей, я нашла потайной ход. Не в стенах, а под ногами. Ведет в какую – то… библиотеку, что ли? Комната, полная истлевших фолиантов и пергаментов. И трон. Одинокий, пустой трон. А под ним… – она сделала драматическую паузу, наслаждаясь вниманием, – …кучка пепла. Старая – престарая. И на этой куче сияла вот эта безделушка. Показалась мне… подходящей. Решила, что корона мертвого короля будет смотреться на мне куда лучше, чем на груде праха.
Од, до этого молча наблюдавший, мрачно хмыкнул.
– И конь стоял привязанный у входа в ту дыру. Как будто ждал, – добавил он. – Слишком удобно, Ханар. Слишком уж все это похоже на приманку.
– Приманку? – Ханар резко повернулся к Исиндомиду, который до сих пор оставался в стороне.
– Ты слышишь, старик? Мы положили армию, превратили своих лучших воинов в этих… камней… ради приманки? Ты клялся, что Сферул Богини – Матери здесь! Что сила, рожденная от падения небожительницы, даст мне трон! Где он?!
– Ваша Милость, – вклинился Исиндомид, его голос маслянисто – успокаивающий, – позвольте мне направить ваш гнев…
– Только не смей говорить, что его здесь нет! – Ханар был в ярости. Он чувствовал, как его планы рушатся, как песок сквозь пальцы.
– Возможно… так оно и есть… – Колдун сделал плавный шаг назад, его мутные глаза бесстрастно наблюдали за гневом повелителя. Он протянул руку в пустоту между ними. Длинные пальцы медленно сомкнулись, будто обхватывая невидимый шар. – …Но мы можем увидеть истину. Посмотри, – велел Исиндомид, и его голос обрел гипнотическую глубину, в которой тонула любая ярость. – Не на меня. Посмотри… на след пламени.
В воздухе, точно в центре воображаемой сферы, вспыхнул тонкий, извивающийся шнурок дыма. Угольно – черный, густой. Он не рассеивался, а плыл, вытягиваясь в зыбкую линию.
– Постой, старик! – рыкнул Ханар, его рука инстинктивно сжала рукоять секиры. Дымовой след замер, будто прислушиваясь. – Ты что, не слышал? Мы зря положили город! Зря превратили моих воинов в эти статуи! Ты говорил, что Сферул здесь! Где он?! Или твои «знания» – всего лишь ветер из твоих сморщенных губ?
Од Куулайс шагнул вперед, его низкий голос прозвучал как предупреждение:
– Мой Господин. Остынь. Криком делу не поможешь. Но вопрос резонный, Исиндомид. Мы шли на Элимию по твоему слову. Ради главной цели. И теперь оказывается, что цели здесь нет. Объяснись.
Укуфа, до этого игравшая с короной, вдруг бросила ее в траву с брезгливой гримасой.
– Да, старик, – ее голос звенел, как лезвие. – Мне надоело быть твоей ищейкой. Ты послал нас на охоту за призраком. Я облазила все щели этого проклятого города, пока ты отсиживался в лагере. Может, ты и не хотел, чтобы мы его нашли? Может, тебе нужен был не Сферул, а просто пепелище? Или… – ее взгляд скользнул по рядам безмолвных трайтеров, – …это было нужно для чего – то другого?
Исиндомид медленно повернулся к ним. Его лицо, освещенное призрачным светом дымного шнура, казалось высеченным из древнего желтого камня. В его глазах не было ни страха, ни оправдания, лишь холодная, бездонная уверенность.
– Вы слепы, – произнес он, и его тихий голос перекрыл их гнев. – Вы ищете сундук с золотом, не видя карты, что ведет к целой сокровищнице. Да, Сферула Богини – Матери в Элимии нет. Он никогда здесь не был.
Ханар аж попятился, словно от удара.
– КАК?! Ты… ты смеешь…
– Я смею видеть дальше твоего гнева, Ханар Эпперли! – голос колдуна внезапно загремел, заставляя даже Укуфу на мгновение отступить. – Я вел тебя сюда не за артефактом. Я вел тебя к уроку! К последнему осколку мозаики, без которого твой трон будет не крепче этих пепельных руин! Элимия была испытанием. Испытанием твоей воли. И твоим первым настоящим поражением. Ты научился побеждать. Пришла пора научиться проигрывать и понимать – почему!
Од, хмурясь, смотрел то на Ханера, то на колдуна. Его верность была Ханару, но логика старика, пусть и безумная, имела зловещий смысл.
– Какой урок? – прошипел Ханар. – Урок в том, что я могу доверять только стали и своей секире?
– Нет. Урок в том, что твой величайший враг – не король на троне, а твое собственное неведение. Ты ищешь Пламя, но не знаешь, кто его носитель. Ты ищешь Сферул, но не знаешь, где он скрыт. Ты идешь вперед, не глядя под ноги, и спотыкаешься о тени прошлого.
Исиндомид повернулся к дымному следу, который снова пришел в движение.
– Я не приведу тебя к трону, Ханар. Потому что трон, завоеванный вслепую, станет твоей тюрьмой. Но я могу привести тебя к пониманию. – Он повел рукой, и шнур дыма извился, указывая вглубь лагеря. – Этот след… он укажет дорогу не к власти, а к истине. Дорогу, по которой должен пройти лишь ты. Решай. Будешь ли ты и дальше метаться в сетях своего гнева, как пойманная муха? Или наконец посмотришь, кто эти сети сплел?
Он повернулся и пошел. Призрачный шлейф черного дыма вился перед ним, как змей – поводырь. Од и Укуфа, обменявшись красноречивыми взглядами – в них было и недоумение, и тревога, и проблеск интереса, – медленно направились следом. Дым вел их вглубь лагеря – прямиком к шатру самого Ханара.
Ханар стоял несколько мгновений, дыхание прерывистое от гнева, унижения и жгучего любопытства. Ярость требовала действий, простого и ясного – схватить колдуна за горло и вытрясти из него ответы. Но странная сила момента – гипнотический голос, неумолимая тяга дымного следа и зерно правды в словах Исиндомида – пересилила ярость. С глухим ворчанием, сжимая и разжимая кулаки, он шагнул следом.
Шатер Ханара был суровым и аскетичным. В центре тлела жаровня. Именно к ней и вел извивающийся след. Исиндомид остановился перед ней.
– Здесь, – сказал он, указывая на грубый коврик из шкуры. – Сядь. Смотри на угли. Дай следу пламени раствориться в их глубине. Огонь очищает. Огонь открывает.
Исиндомид сам опустился на корточки с неожиданной легкостью, его глаза отражали багровое мерцание углей. Он протянул руку над жаровней. Черный дымный след словно втянулся в угли, заставив их вспыхнуть ярче. Новый, густой дымок медленно поднимался вверх, образуя в спертом воздухе шатра причудливые, меняющиеся формы.
– Смотри, Ханар, – прошептал колдун. – Смотри сквозь дым. Узри его истинный лик… прежде чем коснуться…
Ханар, подчиняясь ритму, медленно опустился на коврик. Взгляд его затуманился, следя за клубящимися тенями. Остался лишь треск углей и нарастающий шепот в собственной голове. Рука сама собой разжала кулак. Секира осталась лежать у входа. В шатре, пахнущем простотой и железом, начиналось путешествие вглубь.
Треск углей стал гулким, как удары сердца. Багровое мерцание растеклось, растворив границы. Воздух сгустился, стал теплым и влажным.
Легкий, как колокольчик, смех. Женский смех. Запахло… черемухой. Сладкий, пьянящий аромат. По щеке скользнуло дуновение летнего ветра, несущего с собой визгливый, беззаботный смех детей. Грудь Ханара сжало от чего – то острого и забытого.
Щелчок. Резкий, металлический. Аромат цветов перебило едким запахом пота, сбруи и страха.
Картинка дернулась. Лето испарилось. Вокруг – темный, сырой лес. Чужие сосны. В ушах – топот копыт. Его собственное хриплое дыхание. И жажда. Крови.
"Не тронь моих детей!"
Женский голос. Твердый. Отчаянный. Он увидел ее – мелькнувшую между стволами. Тею. Исхудалую, с глазами, полными дикого ужаса и ненависти. К нему. Рука с секирой уже была занесена. Рефлекс. Ярость. Обещание: «Никакой пощады. Найди Пламя.»
Чмок. Тупой, влажный звук. И кровь. Алая, брызнувшая на серую кору сосны. Голос Теи затих. Навсегда. И в эту тишину ворвалось другое чувство – чистая, белая ярость. Не его. На него. И пламя. Оранжевое, яростное, вырывающееся из самой земли. Оно жгло глаза. Он отшатнулся.
А потом увидел их. Сначала – глаза. Большие, карие. С ненавистью и страхом. Мальчик, что был постарше, бросился вперед, не к Ханару, а туда, где Укуфа Бхинрот приставила острие копья к горлу его младшего брата. Малец смотрел прямо на Эпперли. Его крик – немой, разрывающий душу – был слытен только в его глазах, полных обреченности и безумной отваги.
Секира взметнулась снова. Старший рухнул. И тогда… пламя. Оно вырвалось из самого воздуха вокруг младшего. Источником того оранжевого кошмара был пятилетний мальчик в железных лапах Укуфы. Его карие глаза, огромные от ужаса, смотрели прямо на Ханара. Не на убитых. Только на него. И в них не было слез. Только первобытная, всесжигающая ненависть. Обещание.
Картинка дрогнула, поплыла. Угли в жаровне взметнулись ярко – синим пламенем на миг.
Мальчик… вырос. Стоял перед ним снова. Мужчина. Высокий, суровый. Его карие глаза – те самые, детские, но ставшие холодными и неумолимыми – горели все той же смесью ненависти и… знания. Теперь в них была и решимость. Холодная, как лезвие. И снова пламя окружало его. За его спиной, сквозь дым и жар, виднелись очертания двух высоких, острых пиков. И вокруг – тлеющие трупы. Десятки. Воинов. В знакомых шлемах, с его гербами. Тлеющие остатки его собственного отряда.
Ханар Эпперли вышел из видения.
Он дернулся всем телом. Глубокий, хриплый вдох разорвал тишину шатра. Он сидел на шкуре, спина покрыта холодным потом, ладони впились в грубый мех. Перед ним все так же тлели угли. Никакого синего пламени. Никакого мужчины.
Но запах гари и крови все еще стоял в ноздрях. Запах леса, страха и детской ненависти. И холод тех карих глаз – детских, а потом взрослых – прожигал его насквозь. Он поднял голову. В багровом отблеске углей его собственные глаза были дикими, полными не гнева, а первобытного ужаса и невероятной усталости.
Исиндомид все так же сидел напротив, его лицо было скрыто в тени, только глаза, два уголька, отражали мерцание жаровни. Они наблюдали. Ждали.
– Что… что это было, колдун? – голос Ханара был хриплым шепотом. Он смотрел не на Исиндомида, а сквозь него. – Кто… этот мальчик… этот мужчина в огне?
– Ты видел носителя, – прошептал Исиндомид. – Ты видел, как он применял свою силу. Не в прошлом. В настоящем. Видение показало не только его лицо, Ханар. Оно показало место. Ту самую вспышку силы, что оставила след в мире. Он использовал силу здесь. Совсем недавно. И теперь… мы знаем, где искать.
– След пламени, что привел нас в этот шатер… он не исчез. Он лишь изменил направление. Он ведет к носителю. К тому самому мальчику… ставшему мужчиной… с карими глазами ненависти. К тому, кто носит в себе Пламя Богини – Матери. Живой Ключ к силе, что творит миры. И этот след… – Исиндомид провел рукой по воздуху, и между его пальцами вспыхнул тот самый извивающийся огненный след. – …он говорит, что носитель Пламени уже здесь. В Антарте. И он сам приведет нас… к Источнику.
Он резко сжал кулак. Огненный след погас.
– Охота, мой яростный волк, – прошептал колдун, и в его голосе зазвучала леденящая душу уверенность, – только начинается. И добыча уже на тропе.
В шатре воцарилась гнетущая тишина. Ярость в глазах Ханара сменилась хищной, холодной концентрацией. Он посмотрел на дверь шатра, за которой лежала Антарта. И где – то там, среди теней, шел человек, несущий в себе огонь его гибели… и ключ к его трону.
Он уже здесь.
ДОРОГА МОЛЧАНИЯ
Легкие помнили ледяную воду. Даже сейчас, когда каждый вдох обжигал холодом, они сжимались в спазме, напоминая о том, как она распахнула объятия черным водам Чертовых Пальцев и ринулась вниз, в ледяной омут. Она не помнила боли от удара, только всепоглощающий холод, затягивающий в черноту. И руки Раймонда, выдиравшие ее обратно к жизни, которой она больше не хотела.
Теперь холод был иным. Сухим и колющим. Снег слепил даже сквозь закрытые веки, налипая на белые ресницы. Он падал густо, тяжело, заваливая тропу, которая уже и не тропа была, а лишь смутная память о направлении, угадываемая Раймондом по изломам скал. Адея не видела их. Она сидела в седле Тайнана впереди него, вставленная в пространство между его раненой рукой и той, что еще могла держать поводья. Ее спина чувствовала тепло его тела, ее затылок – его прерывистое, хриплое дыхание над головой.
Он был ее саваном и ее якорем.
Его правая рука в самодельной шине из двух щепов лежала на ее бедре, искаженная и бесполезная. Бинты, сорванные с подола ее же платья, были ржавыми от запекшейся крови. Она помнила, как рвала ткань, крича что – то нечленораздельное, умоляя наемников оставить его, остановиться. Тогда, в ярости и ужасе, ее тело еще что – то чувствовало. Теперь – нет. Только глухую, ноющую боль в низу живота, вечное эхо преждевременных родов. Там, где должно было биться сердце ребенка, зияла пустота, физическая и душевная, такая огромная, что в ней тонули все остальные чувства.
Каждый его вдох, короткий и со свистом, отдавался в ее спину. Сломанные ребра. Она знала, что ему невыносимо больно. Что каждый шаг коня отзывается в нем огнем. Но ее собственное горе было массивнее, тяжелее любой физической травмы. Оно пожирало все, как черная дыра, оставляя лишь тонкую, хрупкую скорлупу, которая была Адеей. Его страдания доносились до нее как сквозь толстое стекло – видимые, но неощутимые.
«Он дышит, – тупо констатировала она про себя. А мой сын – нет.»
Он остановил Тайнана на привал под нависающей скалой, дававшей призрачную защиту от ветра. Сперва он убрал с ее бедра свою сломанную руку, и Адея почувствовала, как он весь напрягся, подавляя стон. Потом, цепляясь левой рукой за луку седла, он медленно, мучительно сполз на землю. Его ноги подкосились, и он едва удержался, прислонившись к конскому боку. Он привязал Тайнана к выступу скалы, движения его были неточными, размашистыми от слабости.
Потом повернулся к ней. Его лицо под маской запеченной крови и грязи было серым от боли и истощения.
– Держись, – прохрипел он, его левая рука обхватила ее за талию, чтобы снять с седла.
В этом прикосновении не было ни нежности, ни силы – лишь отчаянное усилие. Его колени подогнулись, и они едва не рухнули оба в снег. Адея молча соскользнула на землю, как кукла, и осталась стоять, не двигаясь, глядя в белое марево. Она слышала за спиной его тяжелое дыхание, звук скребущегося по снегу сапога, хруст ломаемых одной рукой хворостин. Он возился с огнем, и в этом была вся его суть – упрямое, животное цепляние за жизнь, которое она в себе исчерпала.
Потом он подошел к ней с флягой. Поднес к ее губам. Адея не реагировала. Вода? Ее горло все еще спазмировало от памяти о речной воде. Он грубо взял ее за подбородок, его пальцы были холодными, и влил несколько глотков. Жидкость потекла по подбородку, каплями застывая на коже. Слез не было. Она выплакала их все в ту ночь, когда он забрал у нее маленькое, синеватое тельце, завернутое в пеленки. Она помнила его вес на своих руках. Смехотворно маленький. Бездыханный. И она держала его, не в силах отпустить, пока Раймонд не сделал это за нее, его собственное лицо искажено таким страданием, что она, сквозь пелену своего горя, едва узнала его. Он унес его к костру, и для Адеи это было равноценно тому, что он собственноручно бросил в пламя ее сердце.
– Ешь, – его голос был чужим, хриплым от боли и простуды. – Ешь, Адея.
Он сунул ей в руку краюху замерзшего хлеба, разломанную его зубами. Она сжала ее в перчатке, не глядя. Хлеб. Запах. Внезапно и яростно память накрыла ее: тепло печи в Лимонных Садах, щекочущий ноздри аромат свежеиспеченного хлеба с тмином, смех отца, доносившийся из сада. Безопасность. Дом. Мир, где самые страшные трагедии были из разряда подгоревших коржей или ссоры с сестрой из – за ленты. Мир, где не было ни наемников, ни сожженных дотла городов, ни ведьм в лесных избушках, выскребающих из тебя последние надежды. Этот мир рассыпался в прах, и теперь его осколки впивались в нее, острее любого клинка. Теперь был только снег. Бесконечный, безмолвный, бессердечный снег, под которым можно было уснуть и не проснуться. И пустота, звенящая в ушах громче любого крика.
Раймонд тяжело опустился на корточки у чахлого огня, прислонившись спиной к скале, и закрыл глаза. Его лицо исказила гримаса, и он задышал чаще, коротко и с присвистом, словно рыба, выброшенная на берег.
Внезапно Тайнан рванул поводья, громко и тревожно зафыркал. Раймонд инстинктивно вскочил, левая рука рванулась к эфесу меча. Мгновенное, резкое движение. Оно отозвалось в его сломанных ребрах ослепляющей вспышкой боли. Он громко, по – звериному, простонал, его тело предательски дернулось, он споткнулся о скрытый под снегом корень и тяжело рухнул сначала на колено, а потом на бок. Темные, свежие пятна проступили на его потертом плаще.
Адея смотрела на это со стороны, как на разыгранную на сцене представление. Ее разум, онемевший от горя, регистрировал падение, но не осознавал его.
«Встань, – подумала она безразлично. Или не вставай. Какая разница?»
Но потом ее взгляд упала на его сломанную руку, беспомощно вывернутую, на те самые бинты с подола ее платья. И в памяти всплыло не его лицо, искаженное болью, а другое. Его лицо у погребального костра. Озаренное отблесками пламени, по которому полз дым, уносящий с собой все ее будущее. И ее собственное тело, рвущееся вперед, в этот очищающий жар, чтобы исчезнуть.
Ее ноги, не слушаясь окаменевшего разума, сделали шаг. Потом другой. Она медленно подошла и опустилась на колени рядом с ним в снег. Колючий холод тут же пропитал тонкую ткань ее рваного платья. Ее рука в грубой перчатке коснулась его плеча. Он лежал, сжавшись в комок, борясь с волной тошноты и боли, и не видел, как в ее пустых, фиалковых глазах на миг мелькнула искра чего – то, кроме отчаяния. Не жалости. А странного, изуродованного родства. Они оба были сломлены. Он – телом, она – душой. Она не могла помочь ему подняться. Не могла сказать ни слова утешения. Но она была здесь. Она приползла из глубины своей бездны, потому что в его падении увидела отголосок своей собственной. И пока он был жив, жива была и память о том, что она когда – то любила, надеялась, носила жизнь под сердцем. Он был последним живым свидетелем ее счастья.
Он, наконец, переборол спазм, с трудом приподнялся, опираясь на локоть. Его взгляд, затуманенный болью, скользнул по ее руке на своем плече, потом по ее лицу, по мокрым следам от воды на ее щеках, которые можно было принять за слезы. Ни удивления, ни надежды в его глазах не было. Лишь усталое, горькое понимание. Они были двумя половинками разбитого сосуда, и ни одна не могла удержать воду.
Молча, он поднялся, помогая ей встать. Молча, с нечеловеческим усилием вновь всадил ее в седло. Молча, вскарабкался сам, снова прижав ее спину к своей груди, к своему тяжелому, свистящему дыханию. И они поехали дальше, двое немых призраков на одном коне, в белой, безжалостной пустоте, оставляя за собой единственный след – две тонкие линии, что тут же заметала вьюга.
ЗОЛОТОЙ ГОРШЕЧНИК
Великий замок Акрагант был не просто крепостью, он был каменным чревом, гигантским, беспощадным организмом, который ежедневно проглатывал тысячи жизней, чтобы переварить их в прах, пот и покорность. Он урчал скрипом тележных колес на мостовой, стонал гулом голосов в сводчатых потолках, выделял испарениями кухонь, конюшен и людских скоплений. И Терон Ламонт, золотой горшечник, был одним из его любимых пищеварительных соков – едким, незаметным и абсолютно необходимым для поддержания жизни этого монстра.
Его день начинался еще до рассвета, с вони. Едкая, густая смесь человеческих испражнений, мочи, прогорклого вина и гнилой соломы ударяла в ноздри, едва сознание возвращалось к нему. Это был запах его долга, его унижения и его власти.
Воздух в общей каморке под лестницей, которую он формально делил с тремя другими слугами – подростками, был спертым и тяжелым, но Терон проводил там лишь несколько часов. Он затягивал шнуровки на своей поношенной, но добротной тунике из мягкого бархата – не самой плохой, между прочим, – и его пальцы скользили по ткани с почти что ласковым удовлетворением. Это был трофей. Затем он надавал свои крепки, просмоленные башмаки и кожаный передник, грубый и потрескавшийся от работы. Обряд облачения был завершен. Он был готов нести свой крест из позора и возможности.
Его обязанность была примитивна и всем очевидна: обход покоев знати, опочивальней гвардейцев, каморок писцов и даже темных закоулок казарм. Он собирал ночные горшки, выносил их в огромной дубовой бадье на плече к выгребным ямам за стенами, мыл их в ледяной воде с уксусом и расставлял обратно. Он был золотым горшечником. Ирония этого титула, данного кем – то из старших слуг с извращенным чувством юмора, не ускользала от него. Он носил дерьмо лордов, и за это ему платили гроши. Но именно эта работа давала ему нечто бесценное – доступ. Доступ к их комнатам, к их секретам, брошенным на полусонную тягомотину ночи, к их грязи. И доступ к тем, кто мог сделать его жизнь чуть менее дерьмовой.
И он пользовался этим, как тонким, отточенным кинжалом.
Его лицо, слишком прекрасное для юноши его круга, было его главным оружием. Широко распахнутые серые глаза, цвета зимнего моря у скал Харбора, казалось, видели в каждом лишь самое сокровенное, слабое и нуждающееся; вздернутый нос придавал ему вид наивного, почти что девичьего отрока; густые кудри цвета спелой пшеницы, ниспадавшие на плечи, вызывали у женщин истому, а у мужчин – смутное раздражение. И Терон, прекрасно зная это, не стеснялся пускать свою красоту в ход. Он давно усвоил, что это валюта, которой можно платить там, где не хватает монет.
Первой на его пути сегодня была Мэти, девушка – помощница в портняжной мастерской. Он застал ее на узкой лестнице, ведущей в женскую половину, где она перебирала стопку свежевыстиранного белья. Увидев его, она вздрогнула, и румянец на ее щеках залился алым маком, таким ярким на фоне серых камней.
– Терон, – выдохнула она, судорожно прижимая к груди простыни. – Ты… уже на обходе?
– Давно, Мэти, – он улыбнулся ей так, как будто она была единственным светом в этом мрачном утре. Его голос был тихим, доверительным. – Не спалось. Все думал о той темно – синей ткани, что лежит у мастера Яглома в углу. Она бы так оттеняла твои глаза.
Она покраснела еще сильнее, смущенно потупилась.
– Ох, это для молодого лорда Виллара, ему на охотничий кафтан… остатки, может, и будут…
– Жаль, – вздохнул Терон с такой искренней грустью, что сердце у девушки должно было сжаться. – Моя старая рубаха совсем по швам разъезжается. А в такой… я бы чувствовал себя увереннее.
Он не просил напрямую. Он просто сеял зерно. Мэти, ее пальцы вцепились в ткань, уже видела его в этом кафтане, уже шила его для него в своем воображении.
– Я… я посмотрю, – прошептала она, оглядываясь, не услышал бы кто. – Может, что и найдется.
Он кивнул, его взгляд был полон такой безмерной благодарности, что ей стало жарко.