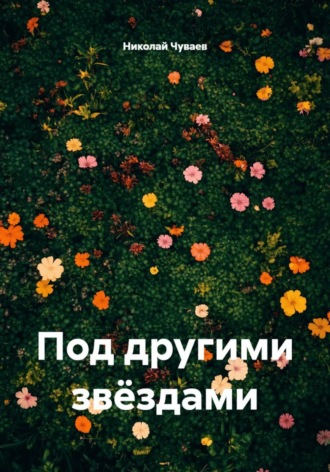
Полная версия
Под другими звёздами

Николай Чуваев
Под другими звёздами
Пролог
Каменистая осыпь, нагретая за день до зноя раскалённых углей, медленно остывала, отдавая вечернему воздуху сухое тепло. Сверху, цепляясь корнями за трещины в скале, нависала одинокая берёза-коряга, её кора в бликах заката казалась чеканной. А в самом сплетении её корней, словно чёрная дыра, проваливающаяся в нутро горы, зиял неширокий, но пугающе правильный проём, привлекший внимание троих друзей – любителей находить загадки в тех местах, где, казалось бы, всё давно уже известно.
– Нет там ничего, Оганез! Почудилось, – Матвей Гладышев, снимая каску и вытирая пот со лба, устало опустился на камень. – Обычная расселина. Кончается через пятнадцать метров глиняной пробкой.
Виктор Казанцев молча кивал, сверяясь с картой на планшете. Все логичные аргументы опытного спелеолога были на его стороне.
Но Оганез Карапетян не слушал. Он стоял на коленях перед чёрным провалом – каким уже по счёту в его жизни? – уперев руки в бока, и всем существом чувствовал странность этого места. Не просто пустоту, а именно странность. Воздух, выходящий из отверстия, был не спёртым и влажным, как в любой пещере, а сухим и теплым, с едва уловимым, незнакомым запахом – словно из огромного, давно запертого подвала, где пахнет не сыростью, а пылью чужих миров.
– Нет, – тихо, но с железной уверенностью сказал он, не отрывая взгляда от темноты. – Там не пробка. Там… поток.
– Какой поток? – флегматично спросил Виктор. – Водный? Воздушный?
– Поток другой, – Оганез обернулся к друзьям, и в его глазах, обычно весёлых и насмешливых, горел непривычный огонь одержимости. – Доверьтесь. Я не могу это объяснить. Но я чувствую. Эта дыра… она не заканчивается.
Он снова склонился над провалом, и его фигура на фоне огромного алтайского неба казалась вдруг нелепо маленькой и в то же время бесконечно значительной – фигурой человека на пороге. На пороге того, что должно было навсегда перевернуть не только их жизни, но и сам мир, хотя они этого ещё не знали.
Оганез вдохнул странный, прохладный воздух и сделал шаг вперёд, в темноту, которая оказалась не концом, а началом.
Глава первая. Тоннель
Последний звонок прозвенел где-то глубоко внутри, отзвучал и растворился в майском мареве. Барнаул плыл за окнами трамвая второго маршрута, раскалённый и сонный. Казалось, сам асфальт источает пар, а с Шинного завода ветер приносил запах металла, резины и тяжёлое, сладковатое дыхание нагретого бетона.
Я ехал домой, и в кармане у меня лежал табель о завершении восьмого класса – очередная страница жизни была перевёрнута с лёгким, почти неслышным шелестом. Впереди – три месяца свободы, бесконечные, как это небо. А пока трамвай, позванивая на стыках рельсов, вёз меня через весь город.
За пару остановок до своей, я, как по команде, встал и начал готовиться. Снял с плеча сумку, достал из неё свёрнутый китель кадета МЧС. Надел его, застегнул на молнию, поправил воротник. Потом – оранжевый берет. Глупая, упрямая надежда, что в форме ты нравишься девчонкам больше. Может, дело в погонах? На моих погонах не было никаких лычек. Несмотря на все старания, я так и не дослужился до вице-ефрейтора, оставаясь в гордом, но скромном звании кадета. Просто кадета.
– «Детский сад», – хрипло, слегка задумчиво, как бы вспоминая что-то, проскрипел динамик.
Я выскочил из вагона на палящий воздух. Двор нашего дома встретил меня непривычной пустотой. Ни души. Только пыль кружилась в столбах света. И только одни качели скрипели, выписывая в воздухе упрямые дуги. На них, отчаянно закинув ноги и заплетя косички по ветру, раскачивалась моя сестра Агата, третьеклассница. Она раскачивалась как-то не по-детски, с каким-то незнакомым, лихорадочным упорством.
И тут я увидел машину. Незнакомый УАЗ. «Патриот» в самой что ни на есть люксовой комплектации, зелёный, огромный, как бронетранспортёр. С огромным багажником на крыше и заляпанными грязью колёсами. Я знал все машины во дворе – от старенькой девятки соседа до нового хёндэ дяди Миши. Этой здесь не должно было быть. Вопросы, кто и зачем, сами собой развеялись, когда Агата, зависнув в верхней точке, крикнула на весь двор, и в её голосе было столько радости, что аж сердце ёкнуло:
– Папа приехал!!!
И всё. Воздух сгустился, время сломалось. Пустота двора, скрип качелей и этот зелёный УАЗ, который вдруг стал не просто машиной, а вестником из другого, незнакомого мира, в котором существует мой отец. Папа, который уехал в командировку на «новые территории» полгода назад и чьё возвращение всегда было чем-то далёким и неосязаемым, как завтрашний день.
А сейчас он был здесь. За той дверью, в нашей квартире. И каникулы, которые только что казались просто бесконечной лентой свободных дней, вдруг натянулись, как тетива. Что-то начиналось. Что-то огромное. Я это чувствовал кожей.
Тайна висела над нашей семьей все эти месяцы, как сгусток невысказанного.
– А где у тебя батя?
– На новых территориях?
– Это что, Донбасс? Херсонская область? – не унимались мои одноклассники.
А я и не знал, что им сказать. Только пожимал плечами, чувствуя себя то ли сыном секретного агента, то ли обманщиком.
И вот сейчас, когда папа, настоящий, пахнущий дорогой и чем-то чужим, стоял в прихожей и обнимал нас всех разом, я был уверен – щелчок, и тайна станет явью.
– Пап, ну и где это? Как там? – выпалил я, едва мы отлепились друг от друга.
Отец посмотрел на меня, потом на маму, вздохнул и… огорчил.
– Нет, не могу рассказать, – он развел руками, видя мое разочарование. – Подписку давал о неразглашении. Железную. И тут, – он показал пальцем на пол нашей квартиры, – ЗДЕСЬ, ничего об этом не говорить. Ни слова.
Я почувствовал, как во рту пересыхает. Это было серьезнее, чем я думал.
– Но ты уже завтра всё увидишь. Сам, – его глаза вдруг блеснули, как у мальчишки, затеявшего шалость. – А пока… Нам надо хорошенько приготовиться. Настоящий шоппинг.
И началось. Это был не поход по магазинам, а какая-то стратегическая закупка для колонизации неизвестной планеты.
В садоводческом гипермаркете он сгреб с полок мешки с клубнями картошки десятков сортов, пакеты с семенами моркови, баклажан, томатов.
– Так уже поздно сажать! – удивилась продавщица, глядя на наши тележки. – В открытый грунт уже всё, время ушло!
– Это вам поздно! – парировал отец с такой уверенностью, что женщина только рот открыла.
Потом был магазин одежды. Мы покупали всё. Зимние пуховики, шапки, термобелье и летние шорты, футболки, платья. Полный комплект на все случаи жизни, словно мы собирались жить в месте, где за полярным сиянием сразу следует тропический ливень.
Затем – автомобильный центр. Отец, не моргнув глазом, купил огромный двухосный прицеп. И всё началось заново. Мы поехали в магазин бытовой техники и стали грузить в этот прицеп холодильник, посудомоечную машину, плиту, микроволновку, два телевизора. Казалось, он выкупает весь ассортимент.
– Папа, – не выдержал я, глядя, как он бездумно сует в терминал свою карту, – такое впечатление, что у тебя не карточка… а эмиссионный центр!
Отец расхохотался.
– Ну, почти угадал. Не центр, но хватит. Всё пригодится. Всё, – повторил он загадочно.
Последней, самой безумной покупкой стал минитрактор с целым арсеналом навесных агрегатов. Мы ухватили его в магазине мототехники буквально за десять минут до закрытия, и продавец смотрел на нас, как на сумасшедших.
Вечером наш двор напоминал склад экспедиции. Всё это богатство сияло на закате у нашего подъезда. Отец обвёл его довольным взглядом и поставил жирную точку:
– Ну, вроде всё. Завтра выезжаем. В шесть. А сейчас – все спать.
Но уснуть в эту ночь было невозможно. Воздух трещал от напряжения. Завтра «новые территории» перестанут быть абстракцией. И что бы это ни было – Донбасс, Луна или дно Марианской впадины, – мы были готовы. Почти.
Почти. Удивительно, но мы выехали действительно в шесть утра. Город еще спал, и только мусоровозы с грохотом сопровождали наш кортеж – папин увенчанный багажником и прицепом забитый до самой крыши «Патриот» был похож на корабль пришельцев в спящих улицах.
И тут до меня дошёл хитрый план отца: не тащить с собой старую жизнь, а купить новую. Сколько бы ушло времени, чтобы упаковать всю ту же посуду? Вытаскивать из квартиры старую стиралку? Матрасы? Ну да, ну да… Гениально и безумно.
Итак, мы выехали на Панфиловцев. Где всё знакомо до последнего кустика и трещинки на асфальте. Свернули на «50 лет СССР». Георгиева. Ну, это ещё ни о чём не говорит. Павловский тракт – повернули налево. Интересно. Малахова – поворот направо. Затем кольцо, Власихинская, шоссе «Ленточный бор»… И вот уже город позади, а мы едем по пустынному Змеиногорскому тракту. Куда? В Казахстан? В Тибет? Гоби?
И вот, часа через три, когда солнце стало уже хорошо так припекать даже сквозь тонированные стекла и натужную работу кондиционера, машина свернула в сторону Поспелихи, которую, впрочем, проскочила не останавливаясь. Загадок становилось всё больше и больше.
Выяснилось, что на всём протяжении нашего пути чьи-то мощные силы вовсю расширяли дорогу. Где-то уже было четыре полосы с отбойником посередине. Где-то их активно закатывали в асфальт, где-то монтировались новые мосты и насыпались насыпи. Артерия, в которую вкладывались безумные ресурсы.
– О, новая «железка»! – прильнул я к окну, увидев свежую насыпь и вспомнив репортажи местных новостей. – Это к приискам ведут. Где-то в Курьинском районе.
Отец загадочно улыбнулся. Он знал всё-таки чуть больше.
– Чуть не забыл! – воскликнул он в Курье, резко тормозя у обочины с импровизированным рынком. – Грецкие орехи есть? – это он уже к продавцу. – Давай десять килограммов!
Зачем? Загадка! Ещё одна.
Ещё пару часов спустя асфальт всё-таки резко оборвался. Мы были в каком-то низкогорье. Было пыльно и жарко. Впереди – большая, огороженная колючей проволокой территория, въезд на которую – через шлагбаум. Проверка документов и груза. Собака с милой мордой овчарки, с умными, всепонимающими глазами, обнюхивала колёса, днище, заглядывала в салон. Мы получили её молчаливое благословение. Но тут же – фитосанитарный контроль.
– Выкладывайте… И картошку, и грецкие орехи, и все остальные семена, – потребовал офицер в непривычной форме. – Так, случайно «вертолётики» клёна ясенелистного не подхватили? А семена борщевика?
Все наши сокровища обработали чем-то, гарантированно убивающим личинки всех вредителей, после чего мы проследовали на следующую площадку.
– Ну что же, теперь ждать. Минут тридцать, – сказал отец, заглушив двигатель.
Я огляделся. Площадка, засыпанная свежей щебёнкой, представляла собой прямоугольник метров пятьсот на двести. Одной узкой стороной она упиралась прямо в скалистый склон горы. И в этой горе зиял проём.
Тоннель.
Он был идеально круглым, без каких-либо опор или порталов, словно выжженный в известняке чудовищным лазером. Диаметром метров восемь. Его чёрная глубина казалась неестественной, поглощающей свет и звук. Возле въезда в тоннель горел красный глазок светофора. Безапелляционный и неумолимый.
Машины на площадке накапливались. Их водители и пассажиры, глуша двигатели, выходили и начинали переговариваться друг с другом с каким-то особым, понимающим выражением лиц. Отец тоже встретил кого-то из старых знакомых «с той стороны». Они отошли в сторону, и их тихий разговор, полный странных терминов и намёков, был слышен лишь обрывками.
Я сидел в машине, не в силах оторвать взгляд от этого тёмного круга в скале. Сердце стучало где-то в горле. Это была граница. Дверь. И она была закрыта. Всего лишь красным светом светофора, как на обычном городском перекрёстке. Но от этого становилось только страшнее и нереальнее.
Всё было готово. Мы были на пороге. И оставалось только ждать, когда зелёный свет разрешит нам шагнуть в ничто, за которым, как я теперь точно знал, скрывалось всё.
И вдруг – свистящий шум приближающихся турбодизельных двигателей. Глухой, нарастающий гул, идущий из самого нутра тоннеля. Один за другим, словно выплевываемые невидимой силой, из черного провала вырвались с десяток бронетранспортёров, а за ними – вереница большегрузов с высокими бортами и натянутым брезентом. Их было много, штук двадцать, не меньше. Колонну замкнули ещё около десятка БТРов. Они пронеслись через шлагбаумы, не останавливаясь, поднимая тучи пыли, их свинцово-серые бока сверкали в солнце.
– Золото, – коротко и без всяких эмоций ответил отец на мой немой, вопросительный взгляд. – Очень много золота. Там, – он кивнул в сторону тоннеля, – его за эти полгода уже добыли больше, чем до этого накопило человечество за всю свою историю.
И он начал рассказывать. Теперь уже было можно. Впрочем, пересказывать его сбивчивый, полный технических и не очень подробностей рассказ – бессмысленно. Это было похоже на попытку описать слепому человеку радугу. Расскажу лучше, что началось после того, как последняя встречная машина покинула тоннель и на светофоре наконец-то загорелся зелёный.
Мы въехали под каменные своды. Оказалось, что узкий тоннель расширяли: под потолком и вдоль стен была натянута металлическая сетка, и в тусклом свете аварийных ламп мы видели запылённых рабочих в касках, отщипывавших от скальной массы куски породы мощными отбойными молотками. Работа, судя по всему, велась в круглосуточном режиме, не останавливаясь ни на минуту. Грохот стоял оглушительный.
Ехали мы под землёй километра три, а затем впереди показался свет – не искусственный, а солнечный. Мы выехали на точно такую же площадку (единственное: здесь нас никто не останавливал и не досматривал)… но всё изменилось.
Да, здесь тоже было низкогорье. Такое впечатление, что мы ехали к бабушке в Солонешное. Но…
Мы из первых дней лета попали в первые дни весны. Воздух был пронзительно свеж и влажен, пах талой землёй и чем-то цветущим. Кое-где в расщелинах и на северных склонах всё ещё лежал зернистый, грязный снег. А на прогретых южных склонах, прямо из прошлогодней жухлой травы, цвели подснежники и… тюльпаны! Да, самые обычные тюльпаны, алые и жёлтые, которых у нас в дикой природе увидеть было невозможно. Южные склоны были каменистыми, но там, где они были пологими, стояли в розоватой дымке цветущие дикие яблони, вишня и… абрикосы? А на северных склонах вместо привычных берез росли дубы. Их почки только собрались набухать, но ни с чем невозможно было спутать эти величественные, приземистые деревья с кручёными ветвями. И кое-где старые сухие листья, оставшиеся с прошлого года, ещё даже и не думали опадать, шелестя на ветру, словно медные монеты.
– Папа, где мы? – вырвалось у меня, одновременно удивлённо, восторженно и испуганно.
– Мы называем всё это Тёплой Сибирью, – ответил отец, и на его лице наконец-то появилась не сдержанная улыбка, а широкое, счастливое облегчение. – А вот где это на самом деле… По ту сторону Тоннеля. Больше и лучше никто объяснить не может. Пока не может. Но посмотри вокруг. Это – наше. Теперь уже точно.
И отец начал рассказывать о географии этой местности, медленно ведя машину по свежей гравийке, которая вела в долину. Он показывал рукой на далёкие сизые хребты, на широкую ленту реки внизу, на клубы пара, поднимающиеся где-то за лесом – там, говорил он, горячие источники.
Машина, нагруженная до предела, с трудом съехала с гравийной дороги к роднику. Отец заглушил двигатель, и на нас обрушилась оглушительная тишина, нарушаемая лишь шепотом воды.
– Давайте пополним запасы, – предложил он, вылезая и потягиваясь. – Вода здесь чистейшая.
Я, выбрался из заднего ряда, где делил пространство с сестрами, и глотнул воздух полной грудью. Я первым подошел к свежему срубу, из которого бежала вода.
– Ой, холодная! – пискнула сзади Агата, тыкая пальцем в струю и тут же отдергивая руку. – Как из морозилки!
Алёнка же не полезла к воде, а присела на корточки, увлеченно ковыряя что-то в рыхлой земле у корней огромного, незнакомого дерева.
– Смотли, какой кам! – радостно прощебетала она, подбегая ко мне и протягивая зажатое в кулачке. – Бистит!
Я взял у нее из руки тяжелый, неровный камешек. Он был теплым на ощупь. И тогда солнечный луч упал на него, и он вспыхнул. Не желтым, а каким-то глубинным, рыжим огнем. У меня перехватило дыхание. Это не могло быть правдой
– Па… Папа, – голос у меня сдал. Я просто протянул руку.
Отец взял самородок, покрутил в пальцах, и на его лице расплылась спокойная, знающая улыбка.
– Ну вот, – сказал он, глядя на всех нас. – Алёнка только что нашла свою первую зарплату. Настоящее золото.
– Что?! – мама ахнула, бросившись смотреть. – Прямо под ногами? Не может быть!
– Может, – отец невозмутимо открыл багажник и достал электронные весы. – Здесь много чего может. Девятнадцать грамм. По нашим местным законам, Алёнка, ты теперь богачка. Все, что меньше тридцати грамм, можно оставить себе.
– Ура! – закричала Агата, подпрыгивая на месте. – Алёнка, ты молодец!
– Но это, сынок, еще цветочки. Эти горы так и называются – Самородные.
– Золотые горы… – задумчиво прошептала мама, с опаской оглядывая склоны, словно ожидая, что они вот-вот засверкают целиком. – И мы будем тут жить? Среди этого?
– Будем, – твердо сказал отец. – И не только мы. А теперь садитесь. Хотите увидеть два моря сразу?
– Море? – мама снова оживилась, ее практицизм отступил перед детской мечтой. – Два? И далеко?
– Рукой подать. Километров двадцать.
– Ура-а-а! Море! – завопила Агата, запрыгивая в машину.
– Мо-е! – подхватила Алёнка, тыча пальчиком в свой самородок.
Мы тронулись в путь, и теперь пейзаж за окном читался иначе. Это были не просто красивые горы. Это были Самородные горы. И где-то совсем рядом, за этими хребтами плескались целых два моря. Одно – тёплое и ласковое, но с низкими, болотистыми берегами. Зимой не замерзает, и его, не мудрствуя лукаво, назвали Южным. Другое – суровое и холодное, в его свинцовые воды с шумом обрываются скалы Самородных гор. Даже летом по нему плавают сизые льдины, и имя ему дали соответствующее – Северное.
– А как между ними ходить? На корабле? – не унималась Агата.
– Можно и на корабле, – объяснял отец, лавируя между скалами. – Там две большие реки, Ануй и Чарыш. Мы их так назвали, уж простите за скромную фантазию. Они на равнине так переплетаются, что по их протокам можно проплыть из одного моря в другое.
Я смотрел в окно, на мчащуюся рядом реку, которую отец назвал Чарыш. Она была в разы мощнее и полноводнее своей алтайской тезки. Затем, после долгих часов по ущельям, где некоторые пики вздымались до небес, не уступая славе Эльбруса, нас встретил и Ануй. Он, как и его алтайский собрат, был мутным от горной взвеси и с грохотом несся по камням, но сила его была иной – он казался в десять раз полноводнее и могучее.
А когда солнце начало садиться, окрашивая самые высокие пики в розовый цвет, мы наконец увидели первые огни и табличку с надписью: «Дубровский острог».
Я проснулся. И не понял, где я.
Не то чтобы я испугался. Сознание всплывало медленно, вязко, как со дна темного озера. События двух предыдущих дней – безумный шоппинг, дорога, тоннель, золотой самородок – висели в памяти тяжелым, нереальным грузом. Может, это был сон, который только что закончился? Или же он продолжался, и я все еще в нем нахожусь?
Нет, действительно. Где я?
Я лежал, не двигаясь, и по капле собирал информацию. Под спиной – непривычно скрипящий надувной матрас. Под головой – чужая подушка, отдающая легким запахом стирального порошка. Легкое одеяло сползло на пол, и утренняя прохлада щекотала кожу.
Я повел глазами по сторонам, не поднимая головы. Стены. Никаких обоев – толстые, пахнущие смолой и древесиной бревна. Потолок был собран из светлой вагонки, и в окно пробивался солнечный свет, рисуя в немного пыльном воздухе длинные, узкие лучи. Плотная, звенящая тишина, в которой слышалось лишь собственное дыхание и отдаленный, незнакомый щебет птиц.
Медленно, будто боясь спугнуть хрупкое равновесие этого мира, я приподнялся на локте. Матрас скрипнул. Я повернулся к окну – неширокому, с деревянной рамой.
И выглянул.
Узкая улочка из утоптанного гравия. Противоположная стена такого же бревенчатого дома. А за ним, выше крыш, в утренней дымке, поднимались в небо суровые, покрытые лесом склоны. Не алтайские предгорья. Другие. Совсем другие. Высокие, неприступные, с зубчатыми гребнями, розовеющими на восходе.
И тут память накрыла меня с головой, как ледяная волна. Тоннель. Светофор. Перевал. Самородок. Два моря. Дубровка.
Это не сон. Это – правда.
Я резко сел на кровати, и скрип матраса прозвучал уже не как досадная помеха, а как первый звук нового дня. Дня в Тёплой Сибири.
Я начал ходить по дому, на цыпочках, стараясь не скрипеть половицами, и по кусочкам собирал вчерашний рассказ отца. Дом был новым, пахнущим оцилиндрованной сосной и свежей краской. Сруб, мощный бетонный фундамент, целых четыре комнаты на первом этаже и мансарда под крутой двускатной зеленой крышей. Я чувствовал себя не наследником, а скорее первооткрывателем в этих хоромах, построенных за неделю до нашего приезда.
Из-за одной двери доносилось ровное дыхание родителей, из другой – тихий шепот Агаты и Алёнки, которые уже проснулись, но боялись выйти в незнакомое пространство. Третья комната – моя. А в кухне царил хаос переезда: ящики, коробки, на скорую руку расставленная посуда. Зато в самой большой комнате, гостиной-столовой, основательный порядок: дубовый стол, как остров стабильности, и полдюжины стульев. На стене висело ружье – молчаливое напоминание, что мы не на дачу приехали.
Я поднялся по крутой лестнице на мансардный этаж. Здесь было просторно, пусто и тоже слегка пыльно. Две большие комнаты-пустыри, которым лишь предстояло стать царством игр и взросления моих сестер. Но меня манило не это. Я подошел к широкому окну, вделанному в фронтон, распахнул его – и ко мне ворвался целый мир.
Воздух. Незнакомый, непривычно тёплый, густой. Он пах влажной землей, цветами, которых я не знал, и какой-то сладкой травой, утренними загадками и надеждой, смешиваясь с едва уловимым ароматом хвойных опилок и смолы. Этот воздух я запомнил на всю жизнь.
Справа, почти вплотную, стеной стояли горы, их склоны, обращенные к северу, поросли теми самыми дубами, что дали имя поселку – строго-официальное Дубровский острог или по-простому, Дубровка. Весь он лежал передо мной как на ладони: десяток таких же срубов, маленький магазинчик с вывеской «Продукты», пустая площадка – «здесь будет школа», как сказал вчера отец. Дороги, темные от недавнего дождя, были посыпаны острым, колким щебнем – отходами от работы золотодобывающей драги.
А слева, за небольшой поляной, заросшей сочной, почти тропической травой, виднелась тихая, блестящая на солнце протока. И за ней – сплошная стена незнакомых высоченных деревьев. А дальше, за этой зеленой стеной, лежало Вязовое болото. Где-то в его глубине, в той самой протоке, драга день и ночь мыла золото. И эта же протока, в результате этих работ, должна была превратиться в канал для океанских судов. Соединить два моря. Мысль была настолько грандиозной, что в нее не верилось. Пока здесь царили лишь утренняя тишина и спокойствие.
– Вы, – раздался за завтраком голос отца, – вообще-то самые первые дети в этом поселке. Можете начинать гордиться.
Отец ушёл на работу, бросив на прощание ироничное: «Все деньги мира сами себя не заработают. И канал, соединяющий два океана, сам себя не построит». Но перед уходом он, не говоря ни слова, снял со стены в гостиной «Сайгу» и перевесил ее на веранду, на самый видный гвоздь. И, как выяснилось, не зря.
Я сидел на этой террасе, развалившись в плетеном кресле, и пытался вникнуть в инструкцию к мини-трактору. Да, мне – одному из трех детей во всем этом молодом поселке – предстояло вполне себе взрослое дело: освоить железного коня и вспахать ту самую полянку между домом и протокой. Бумага была белой и невыносимо блестела на солнце, строки сливались, слова упорно не хотели складываться в смысл.
Я отвел глаза от ослепляющего текста, чтобы дать им отдохнуть, и взгляд упал на сестер. Агата и Алёнка, счастливые и беззаботные, возились в куче песка, оставшейся после стройки. Они строили замки, их смех был единственным звуком, нарушавшим утренний покой.
А затем. Сначала я подумал, что это галлюцинация – игра света и тени в листве на опушке. Но тень отделилась от стволов и сделала плавный, неслышный шаг вперед. Огромная кошка. Шерсть – золотистая, в черных розетках. Мускулы играли под кожей при каждом движении. И она смотрела. Не на меня. Смотрела на песочницу, где мои сестры, ничего не подозревая, лепили куличики.





