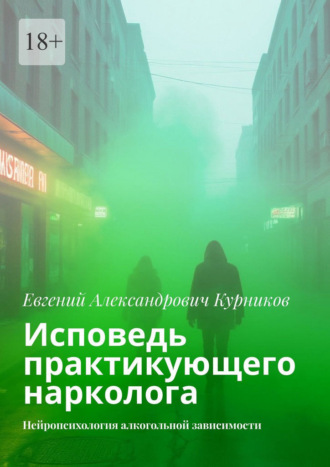
Полная версия
Исповедь практикующего нарколога. Нейропсихология алкогольной зависимости
Именно поэтому я начал писать. Чтобы кто-то, читая, сказал себе: «Так вот как это называется… Так вот что со мной происходит… Я не один. И, может быть, я могу что-то изменить».
Что даёт выход из отрицания созависимому: Спокойствие после многих лет тревоги. Контакт со своей жизнью, телом, желаниями. Возвращение к работе, друзьям, детям. Развитие своей личности. А иногда – шанс, что алкоголик, столкнувшись с реальностью, тоже начнёт меняться.
Глава шестая. ЧЕК-ЛИСТ СОЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
(Ответь на каждый пункт: «Да» или «Нет» – честно, без оправданий)
– Отрицание проблемы
☐ Я часто думаю: «Он не алкоголик, просто ему сейчас тяжело».
☐ Мне сложно произнести вслух: «У моего близкого зависимость».
☐ Я преуменьшаю последствия его пьянства перед другими (и перед собой).
☐ Я говорю себе: «Это просто временный этап, он справится».
2. Психологическая защита и оправдание
☐ Я часто объясняю его поведение внешними причинами: стресс, усталость, детство, работа.
☐ Я верю в его обещания «больше не пить» – несмотря на повторяющиеся срывы.
☐ Я защищаю его перед друзьями, роднёй, детьми, полицией, врачами.
☐ Мне кажется, что если я буду «ещё немного терпеливей», всё наладится.
– Контроль и спасательство
☐ Я регулярно убираю последствия его пьянства (звоню на работу, оплачиваю долги, оправдываю поведение).
☐ Я чувствую, что обязана/обязан его спасать, поддерживать, контролировать.
☐ Я слежу за его действиями: нюхаю, проверяю бутылки, читаю переписки.
☐ Я чувствую, что моя жизнь полностью зависит от его состояния.
– Собственные чувства и потребности – на втором месте
☐ Мне стыдно говорить другим о происходящем дома.
☐ Я перестал (а) общаться с друзьями, заниматься собой, отдыхать.
☐ Я ощущаю хроническую усталость, тревогу, пустоту, бессилие.
☐ Мне трудно ответить: «Чего я сам (а) хочу? Что я чувствую?»
– Жизнь – вокруг него
☐ Все мои мысли – о нём: пил/не пил, будет/не будет, в порядке ли он.
☐ Я теряю интерес к своей жизни, но продолжаю «держать» его.
☐ Я не представляю, как буду жить, если он уйдёт / умрёт / бросит пить.
☐ Иногда я чувствую злость, но подавляю её – чтобы не обострить ситуацию.
Подсчёт: сколько «ДА»?
0—4: Ты пока на границе. Важно задуматься, чтобы не зайти глубже.
5—10: Созависимость присутствует. Ты жертвуешь собой ради чужой болезни.
11—16: Сильная степень вовлечения. Ты живёшь чужой жизнью и теряешь себя.
17+: Необходима помощь. Обратись к психологу, в группы поддержки, начни выздоровление.
Глава седьмая. Прокрастинация
Будучи молодым врачом наркологом, я думал, что самая большая проблема у алкоголика – это водка. Или пиво. Или что там он пьёт. Но со временем я понял: главный враг выздоровления часто – не бутылка, а… прокрастинация.
Да-да, именно она, старая добрая «отложу на потом». На первый взгляд, вроде бы ерунда. Ну что такого – решил человек, что начнёт лечиться с понедельника. Потом с первого числа. Потом после отпуска, после Нового года, после поминок тёщи, после того, как сосед перестанет бесить… А потом – хоп – и 10 лет прошло. А жизни-то не осталось.
Приходит как-то ко мне мужчина лет 40, довольно интеллигентный, с грустными глазами:
– Доктор, всё, устал я. Надо что-то менять. Пить бросаю. Серьёзно.
– Хорошо, – говорю. – Хотите, начнём лечение сегодня?
– Не-не, подождите, – отвечает. – У меня сейчас просто работа напряжённая, отчёт надо сдать. Потом дочка в садик пойдёт, тоже нервы. Может, после этого?
Я киваю. Не спорю. Потому что знаю: прокрастинация – это не просто «ленивость» или «нехватка воли». Это психологическая защита. Прокрастинация у зависимого – это отсрочка реальности. «Я начну потом» – это способ не сталкиваться с ней прямо сейчас.
Вот что я говорю своим пациентам:
Бояться – это нормально. Страх не признак слабости, а показатель того, что ты стоишь на пороге чего-то важного. Но между страхом и действием – огромная разница. Можно бояться, но всё равно делать шаг. Дело не в том, чтобы перестать бояться, а в том, чтобы не дать страху решать за тебя.
Жизнь меняется не через героизм, не через один великий поступок. Она меняется через обыденное. Через маленькое действие, которое выглядит почти ничем: нажать кнопку вызова, написать сообщение, дойти до двери. Не «начать всё сначала», а просто позвонить врачу (конечно если у вас есть знакомый доктор) или в клинику. Не «излечиться от зависимости», а просто дойти до встречи. Сложные вещи начинаются с простых жестов – и только в движении появляется сила. Мотивация не всегда приходит до – она часто просыпается после. Когда ты уже сделал шаг, и что-то внутри словно говорит: «Ну хорошо. Значит, можно».
Внутренний голос часто будет шептать: «Потом». Но «потом» – это отложенная жизнь, в которой никогда не наступает «сейчас». Чтобы не проваливаться в это «потом», важно научиться ловить себя за руку. Спрашивать прямо: «Почему не сейчас? Что мешает?» Ответ может быть прост – усталость, страх, сомнение, отрицание и т. д. Но даже тогда – можно сделать что-то крошечное, почти символическое, чтобы не дать отложенности победить.
И ещё одно: никто не тянет долго в одиночку. Когда включается ответственность – перед кем-то, кто рядом, кто знает, кто ждёт – отступать становится труднее. Договор с близкими или с врачом, разговор с терапевтом, связь с наставником или поддерживающей группой – это не контроль извне, это структура, которая помогает не свалиться в хаос. Когда ты не один, «потом» теряет власть.
Действие важнее страха. Движение рождает опору. И даже если внутри по-прежнему шумно и тревожно – шаг всё равно возможен. Не для того, чтобы быть идеальным. А просто чтобы быть.
Глава восьмая. То, чему меня не учили
Когда я начал работать врачом, очень быстро я понял: всему меня не научили. Не научили, как услышать душевную боль. Не научили понимать, когда перед тобой не просто пациент с синдромом зависимости, а человек с разбитой душой, истёртым сердцем и безмолвным криком, который за годы алкоголизма стал почти неразличим, а главное, по моему мнению, то что в возникновение зависимости в первую очередь виноват не пациент, а много факторов сплетенных воедино различными механизмами самой жизни…
Алкогольная зависимость: определение.
Научное определение гласит: алкогольная зависимость – это хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся компульсивным употреблением алкоголя, утратой контроля над количеством потребляемого, формированием толерантности и абстинентного синдрома, а также нарушением социальной, трудовой и личной адаптации. Это определение зафиксировано в Международной классификации болезней (МКБ-10 и МКБ-11).
Вот другое определение, выписал для вас из учебника по психиатрии и наркологии под руководством Н. Н. Иванец, Ю. Г. Тюльпин – Алкоголизм – хроническое прогрессирующее заболевание, протекающее с ремиссиями и рецидивами, стержневым расстройством которого является патологическое влечение к спиртным напиткам. В процессе заболевания могут развиваться психотические нарушения, соматические и неврологические осложнения, психическая деградация, возможны неблагоприятные социальные последствия.
– Ну что, вы готовы услышать правду, которую вам не скажет ни один учебник?
Только давайте сразу договоримся: я не собираюсь дальше переписывать для вас учебник, «Настольную книгу врача-нарколога». Про стадии, формы, осложнения и терминальные фазы, вы, если захотите, найдёте и сами или можете обратиться напрямую ко мне, всё таки пока что я практикующий врач. Сейчас ведь информации – море. Но скажите честно – вы ведь сюда пришли не за этим?
Вы ведь сюда пришли – жить. А не просто знать, какая стадия у алкоголизма, как его классифицируют в МКБ-10 или сколько миллилитров абсолютного спирта перерабатывает печень в час.
– Правда ведь?
Вот и я так думаю. Вы не поверите, но ни в одном учебнике, по которому я учился, а потом и сам обучал молодых врачей (будучи ординатором я преподавал психиатрию, подменяя преподавателя), не было самого главного:
Как вылечить человека. Как вернуть его к жизни. Как вернуть ему самого себя. Нет такой главы. Есть глава про бензодиазепины, про психозы, про делирий. Есть схемы лечения, где всё по часам: утром – диазепам, днём – капельница, вечером – глицин. А потом – до свидания, мил человек, всего вам хорошего. А дальше? А дальше – снова жизнь, в которой ничего не изменилось, кроме того, что неделя прошла без спиртного. И вы, может быть, удивитесь, но большинство моих пациентов в глубине души вовсе не боятся запоя. Они боятся трезвости. Да-да, не смотрите так.
– Как это боятся трезвости? – скажете вы. – Это же вроде как цель!
А я вам скажу: трезвость – это зеркало. В нём видно всё то, что ты так долго прятал под рюмками, под криками, под обидами и враньём самому себе. Трезвость – это как утро после пожара. Дом ещё стоит, но стены чёрные. Воздух пахнет гарью. И теперь тебе с этим жить.
И вот тут-то, дорогой читатель, начинается настоящий путь. Не тот, что по страницам учебника, а тот, который через боль, через воспоминания, через – внимание! – разговор с самим собой. Жизнь это лучший учебник.
Именно здесь и нужна помощь. Настоящая. Не таблетка, не кодировка и не от строгого участкового нарколога, который поставил крест в медкарте. А помощь, которая помогает увидеть и вынести себя трезвым. Помощь, которая не даёт скатиться назад.
– Доктор, а вы правда верите, что можно вылечиться? – спросил меня как-то один пациент. Мужчина лет сорока пяти, руки в шрамах, лицо в складках, но в глазах – пацан, которого однажды не обняли, не защитили, нашедшего дурную компанию, где его якобы поняли и признали его своим.
Я тогда сказал честно:
– Я верю в человека. Я видел это много раз, я точно знаю, что человек может стать другим. Если сам захочет. И если у него будет хоть один человек, кто в него поверит. Значительно легче стать трезвенником на всю голову когда есть поддержка со стороны.
Так вот, я не читаю вам лекцию. Я разговариваю с вами – честно, как врач, как человек, который каждый день работает с тем, что официально называется «алкогольная зависимость», а по сути – разбитая жизнь, запутанная душа и потерянная опора.
И знаете что? Даже в таких историях я вижу надежду. Потому что если вы читаете эти строки – значит, вы ещё живы. А значит, у вас есть шанс. И не просто шанс «не пить», а шанс начать жить по-настоящему. С чувством, с разумом, с выбором. А учебник… Учебник подождёт. Там не написано самое главное – что вы не один. И что выход есть. Он не волшебный и не лёгкий. Но он реальный. И мы обязательно туда доберёмся. Вместе.
Глава девятая. Наследственность, преморбид. и влияние окружения
Любая история болезни – будь то наркологическая или психиатрическая – содержит отдельный раздел: наследственность. Этот пункт обязателен. Здесь мы записываем, были ли психические заболевания у родственников, включая алкоголизм. Врачи знают: если в семье пил отец, мать или оба – нужно это отметить как отягощённая наследственность.
В научной среде бытует мнение: наследственность играет огромную роль в развитии зависимости. И действительно, существуют генетические маркёры. Чаще всего упоминаются: Ген ADH1B (алкогольдегидрогеназа) – влияет на скорость превращения этанола в ацетальдегид. Ген ALDH2 (альдегиддегидрогеназа) – определяет, как быстро расщепляется токсичный ацетальдегид. Сбои в этих ферментах могут как усиливать неприятные эффекты от алкоголя (что защищает от зависимости), так и наоборот – снижать реакцию на алкоголь, делая человека более уязвимым и предрасположенным к алкоголизму.
Следующее за генами по значимости в развитие алкогольной зависимости являются преморбидные черты личности. Преморбид – это личностные особенности, существующие до болезни повышающие предрасположенность к самой болезни. То, что было в человеке ещё до первого глотка, до первой травмы, до первой ошибки. И это важно.
Вот какие черты я часто замечал у будущих зависимых:
– Повышенная тревожность
– Низкая самооценка
– Склонность к зависимости от чужого мнения
– Уход в мечты, фантазии
– Эмоциональная нестабильность
– Подверженность внушению
– Импульсивность
– Неспособность выдерживать фрустрацию
Эти черты – не диагноз. Но они – почва. В определённой среде на этой почве может вырасти зависимость. Давайте притормозим, и подумаем от куда у юного дарования могут появиться патологические черты личности? Тоже наследственность?
Как формируются такие патологические черты личности в детстве?
1. Повышенная тревожность
Как формируется:
Значимые взрослые, которые пугают, критикуют, внушают вину, не дают безопасной базы. У ребёнка возникает ощущение, что мир опасен, а он сам – слабый.
Тревожность = сигнал о внутреннем конфликте между влечением (например, агрессия) и запретом (нельзя злиться на маму).
Пример из практики (упрощённо): Мальчик хотел ударить брата – обычный импульс в детском возрасте. Мама увидела и крикнула: «Ты чудовище! Как ты можешь так думать?!». Ребёнок пугается, не только маминых слов, но и собственной агрессии. Возникает стыд за чувства, формируется установка: «Мои эмоции – это зло». Проходит время. Мальчик играет с другом, тот в сердцах бьёт его по плечу. Казалось бы – обычная детская ссора. Но в голове мальчика всплывает бессознательная связь:
«Я тоже так хотел – значит, он тоже чудовище».
«Значит, внутри других могут скрываться чудовища».
Так появляется раннее убеждение, выросшее из одного родительского комментария + одного факта – и в нём уже зарождается базовое недоверие к близости: «Даже друзья могут внезапно стать опасными». Это и есть механизм формирования искажения восприятия: эмоция → внешняя реакция → интерпретация → убеждение → шаблон поведения. Такие истории закладываются в раннем возрасте и формируют личность – тревожную, недоверчивую, с чувством вины или эмоциональным щитом.
Убеждение усиливается, если мать неоднократно это проговаривает.
2. Низкая самооценка
Как формируется:
Постоянная критика, сравнение, обесценивание: «У Лены почерк лучше», «Ну ты и неряха», «Что за рисунок, ерунда какая-то».
Если внутренний критик формируется слишком жёстким, то сознание не выдерживает и разрушается чувством вины и неполноценности.
Пример: Маленькая девочка с увлечением рисует. Ей нравится придумывать образы, выбирать цвета, выражать свои чувства на бумаге – это доставляет ей радость и ощущение, что она делает что-то своё, особенное. Но однажды бабушка смотрит на её рисунок и говорит: «Зачем тебе это? Лучше бы математику учила». Для взрослого это может показаться невинным советом, но для ребёнка такое замечание звучит как критика её интересов и обесценивание её внутреннего мира. Девочка слышит в этих словах: «Твоя любовь к рисованию – глупость. Это не нужно. Занимайся тем, что правильно».
Постепенно она начинает меньше рисовать и больше заниматься математикой, не потому что сама этого хочет, а чтобы получить одобрение. В школе ей ставят хорошие оценки по математике, учитель хвалит за старания, а попытки продолжать рисовать приводят к критике: «Неаккуратно», «Цвета не те», «Это не похоже». Она начинает думать: «Бабушка, наверное, была права. Я плохо рисую. У меня не получается». Убеждение укрепляется: раз меня хвалят за математику, но критикуют за рисунки, значит, я способна только на то, что требуют от меня другие.
Со временем это внутреннее убеждение проникает глубже: «Творчество – это не про меня. Я могу быть хорошей только тогда, когда делаю то, что от меня ждут». Это не просто мысль, это основа отношения к себе. Рисование становится символом риска, ошибки, стыда. А математика – символом «правильности» и безопасности. Девочка растёт, учится, становится взрослой. Но внутри остаётся ощущение, что она не имеет права быть собой.
И даже в 30 лет она может бояться взять кисть в руки. Не потому что разлюбила искусство, а потому что глубоко внутри живёт старая, тревожная мысль: «Я не имею права делать что-то спонтанно. Я не должна ошибаться. Я должна быть одобряемой». Это чувство закрепилось через годы – как будто быть собой и быть принятой – несовместимо. Такое внутреннее убеждение может мешать человеку пробовать новое, выражать себя, доверять своим желаниям.
Важно понять: эти страхи и ограничения не врождённые – они когда-то были усвоены, и значит, их можно пересмотреть и изменить.
3. Склонность к зависимости от чужого мнения
Как формируется:
Родители дают любовь «за правильное поведение» – и ребёнок учится подстраиваться, чтобы быть нужным. Ошибка мышления: «Если я не понравлюсь – меня не будут любить».
Исторический факт: Во времена СССР часто учили: «Не высовывайся», «Слушай старших». Личность формировалась не как центр, а как функция.
Пример страха отказа: Взрослый человек чувствует, что не может отказать, даже когда просьбы других ему неудобны, изматывают или идут вразрез с его интересами. Он говорит «да», хотя внутри всё сжимается от напряжения. Ему трудно озвучить своё несогласие, отстоять личные границы или просто сказать: «Мне это неудобно» – даже близким людям. При этом он может казаться вежливым, надёжным, услужливым, но за этим часто скрывается внутренний страх. Внутри него словно живёт тот самый «хороший мальчик» из детства, которому постоянно внушали: «Не груби, не перечь, не возражай взрослым. Делай, как просят. Будь хорошим, иначе тебя не будут любить». Ребёнок учился подстраиваться, угадывать настроение взрослых, избегать конфликтов и не расстраивать никого вокруг, потому что научился: любовь – это нечто, что надо заслужить правильным поведением.
Со временем из этих детских установок формируется внутреннее убеждение: «Если я откажу – меня не примут. Меня полюбят только тогда, когда я удобный, покладистый, не создаю проблем». Это убеждение прорастает в поведении взрослого человека. Он постоянно старается быть хорошим для всех – соглашается, берёт лишнюю работу, слушает, помогает, заботится. Но при этом почти не обращает внимания на себя. Его собственные желания и усталость остаются в тени, как будто они менее важны.
Снаружи кажется, что он просто отзывчивый и добрый человек. Но внутри часто накапливается напряжение: обида, раздражение, усталость. Он может не показывать этого – ведь «хорошие мальчики» не злятся и не жалуются. Он может даже не осознавать, что давно живёт не так, как ему хочется, а как от него ждут. Постепенно это приводит к хроническому выгоранию, ощущению несправедливости, потере радости и связи с собой. Он чувствует, что всегда делает для других, но сам как будто остаётся в стороне. И даже если ему предлагают помощь или заботу, он может не принимать это – ведь внутри звучит та же установка: «Я должен заслужить любовь, просто так меня не примут».
Чтобы выбраться из этого круга, важно заметить: это поведение не врождённое, оно выученное. Оно появилось как способ адаптации, как защита в детстве. Но сейчас – это уже не защита, а ограничение. И человек может постепенно учиться говорить «нет» без страха быть плохим. Учиться слышать себя, быть неудобным, если нужно, – и при этом оставаться достойным любви и принятия.
4. Уход в мечты, фантазии
Как формируется:
Ребёнку не дают быть собой, его желания игнорируют. Фантазия становится единственным безопасным пространством.
Когда реальность не даёт удовлетворения – психика уходит в регрессию, вытеснение, компенсацию.
Пример ухода в фантазии: В детстве у девочки дома царила напряжённая обстановка – постоянные крики, недовольство, ощущение холода и отстранённости со стороны близких. Её никто по-настоящему не замечал, не обнимал просто так, не спрашивал, как она себя чувствует. Ей было одиноко, страшно и некуда было уйти физически, но зато у неё оставался её внутренний мир. Она начинала фантазировать: представляла, что она принцесса, у которой есть красивый замок, наряды, и главное – рядом есть кто-то, кто её любит, заботится, защищает. Эти мечты были не просто развлечением, они становились способом выживания. В этом воображаемом мире было то, чего не хватало в реальной жизни: тепло, внимание, безопасность, ощущение, что она ценна и любима. Там она чувствовала себя живой.
С годами эта привычка «уходить в голову» закрепилась. Девочка выросла, но её внутренняя стратегия осталась такой же. Теперь она спасается в сериалах, в книгах, в романтических фантазиях, где всё красиво и предсказуемо. Она может часами мечтать о будущем, в котором всё наконец станет хорошо, или представлять себе отношения, где её будут понимать без слов. А реальность тем временем кажется ей враждебной, полной рисков, сложных решений и эмоций, с которыми трудно справляться. Внутренне у неё укоренилось убеждение: «Я не справлюсь с этим миром. Он не для меня. Моё место – там, где безопасно, где я всё контролирую – в моих мыслях». Это и есть диссоциация – психологический механизм, когда человек отдаляется от реального опыта, чтобы не чувствовать боль или тревогу.
Раньше такой уход в фантазии действительно был спасением. Он защищал её психику от перегрузки, позволял хоть как-то выжить в эмоционально голодной среде. Но теперь этот способ начинает мешать. Вместо того чтобы проживать настоящую жизнь, строить реальные отношения, пробовать что-то новое, она уходит в придуманный мир. Там спокойно, но там нет подлинных чувств, роста и настоящей близости. Это ловушка, которая незаметно отдаляет от живой, реальной жизни. И первый шаг к выходу – заметить, что внутренний мир был не ошибкой, а опорой. Он помог, когда больше никто не мог помочь. Но сейчас уже можно пробовать жить по-другому – не в одиночку в голове, а постепенно в реальности, где есть место не только боли, но и настоящей связи.
5. Эмоциональная нестабильность
Как формируется:
Непредсказуемые реакции родителей. Сегодня – обнимут, завтра – накричат. Ребёнок не знает, чего ожидать, и живёт в эмоциональных качелях.
Внутренний конфликт не находит выхода, эмоции не проживаются – и накапливаются в виде тревоги, гнева, подавленности.
Пример эмоциональной путаницы: Мальчик просто смеётся, как любой ребёнок – ему весело, он спонтанен, он живой. Но вдруг мама резко кричит на него: «Что ты ржёшь, идиот!». Он пугается, теряется, не понимает, что произошло. Ведь секунду назад всё было хорошо, и он просто радовался. А на следующий день, когда он молчит, чувствует себя сдержанно и осторожно – чтобы не раздражать маму, она снова недовольна: «Ты такой унылый!». И теперь он опять не понимает, что не так. Получается, что веселиться плохо и быть спокойным тоже плохо. Он не может уловить, чего от него ждут. Любое выражение чувств оказывается под сомнением – и за любое он получает упрёк.
Такие моменты могут происходить снова и снова, день за днём. Ребёнок сталкивается с тем, что эмоциональные реакции родителей непоследовательны и непредсказуемы. Он начинает путаться: что хорошо, а что плохо? Как вообще можно себя вести? Со временем у него формируется внутреннее убеждение: «Я не понимаю, что чувствую. Моим чувствам нельзя доверять. Лучше вообще ничего не чувствовать, чем опять сделать не так. Это становится стратегией защиты – он отдаляется от своих эмоций, старается быть максимально «нейтральным», чтобы избежать осуждения или конфликта.
Во взрослом возрасте эта защита не исчезает, а проявляется как сложности с саморегуляцией: человек не может распознать свои эмоции, не понимает, почему ему тревожно, грустно или почему вдруг накрывает раздражение. Он может испытывать апатию – как будто чувства внутри есть, но они «застряли» и не могут выйти наружу. Возникает тревожная зависимость от внешней оценки: «Я не знаю, что я чувствую, подскажите мне, как правильно», «Я, наверное, опять делаю что-то не так». Ему трудно принимать решения, потому что он не чувствует внутренней опоры.
Такие люди часто ищут ориентиры вовне – в чужом мнении, в правилах, в ожиданиях. Но внутри остаётся ощущение, что с ними что-то не так. Всё это – следствие детского опыта, где выражение чувств не просто не поддерживалось, а осуждалось и наказывалось. Чтобы восстановить связь с собой, нужно заново учиться доверять своим эмоциям, давать себе право чувствовать без страха быть отвергнутым. И это возможно – шаг за шагом, в тепле, принятии и с поддержкой.
6. Подверженность внушению
Как формируется:
Ребёнку не дают права на мнение. Его чувства и мысли обесценивают. Он привыкает верить внешнему авторитету, а не себе.
Пример: Мама говорит: «Ты хочешь гулять? Нет, ты хочешь есть. Вот, поешь».



