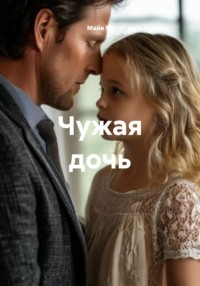Полная версия
Запретная коллекция
«Конечно», – согласился он, и в его голосе снова прозвучала та ускользающая, почти неосязаемая насмешка.
Он отошел, и воздух снова стал разреженным. Вера выдохнула, чувствуя, как по ее щекам разливается жар. Что с ней происходило? Она была профессионалом. Она работала с самыми разными людьми, в том числе и с неприятными. Но этот человек… он выбивал ее из колеи одним лишь своим присутствием. Он был хаосом, вторгшимся в ее упорядоченную вселенную.
Обед принесли в лабораторию. Сегодня это были легкие салаты, суп-пюре из белых грибов и утку в медовом соусе. Изысканно, безупречно, безвкусно. Еда как часть интерьера.
Они ели молча, каждый на своем посту. Вера – у стола, он – у своего окна. Дождь за окном превратился в снег, крупные хлопья медленно падали на темные ветви деревьев.
«Вы всегда хотели быть реставратором?» – неожиданно спросил Волков, прерывая тишину.
Вопрос застал ее врасплох. Он интересовался ею? Или просто собирал информацию для своего досье?
«С детства, – ответила она, откладывая ложку. – Моя бабушка была иконописцем. Она учила меня видеть не образ, а душу, скрытую под слоями олифы и потемневшего лака. Для нее реставрация была не работой, а служением.»
«Служением», – повторил он, и это слово на его языке приобрело странный, почти кощунственный оттенок. – «А для вас?»
«Для меня… это диалог. С художником, с эпохой, с самим материалом. Ты задаешь вопрос, а картина… она отвечает. Иногда шепотом, иногда криком.»
Он внимательно смотрел на нее, и в его глазах что-то менялось. Ледяная броня давала трещину.
«А она вам ответила?» – кивнул он в сторону «Неизвестной».
«Она… поет. Грустную песню. Очень старую.»
«Грусть – это следствие утраты. Возможно, она потеряла того, кто ее написал. Или того, для кого была написана.»
«Вы говорите о ней, как о живом человеке.»
«Разве нет?» – он подошел к столу и провел пальцем в сантиметре от поверхности холста, не касаясь его. Жест был поразительно нежным. – «Художник вложил в нее часть своей души. Часть своей страсти. Энергия не умирает, Вера Сергеевна. Она лишь переходит из одной формы в другую. Здесь она застыла. Ждет.»
«Чего она ждет?»
«Освобождения.»
От этого слова по коже Веры побежали мурашки. Оно висело в воздухе, тяжелое и многозначное.
«И вы… вы ее освободите?» – спросила она, не в силах скрыть иронии.
Он посмотрел на нее, и его улыбка стала шире, но не теплее.
«Я даю приют потерянным душам. Я собираю их. Храню. Я не освободитель. Я… хранитель.»
«Тюремщик», – прошептала она про себя, но он, казалось, услышал.
Его глаза сузились. «Возможно. Но в моей тюрьме им безопасно. Мир снаружи… он безжалостен к прекрасному. Он стирает, портит, забывает. Я – нет.»
После обеда работа продолжилась с новой силой. Вера сфокусировалась на участке с предполагаемой надписью. Это была ювелирная, изнурительная работа. Часами она снимала микронные слои, постоянно контролируя процесс под микроскопом. Руки начали ныть, в спине засела тупая боль, но она не останавливалась. Азарт открытия гнал ее вперед.
Волков наблюдал. Он принес себе стул и сидел прямо напротив, через стол. Он не мешал, не отвлекал. Но его внимание было подобно лупе, собирающей солнечные лучи в обжигающий луч. Она чувствовала его взгляд на своих руках, на своем лице, на своем дыхании.
И понемногу, под этим пристальным наблюдением, с нее начали спадать слои ее собственной защиты. Она перестала замечать его. Вернее, его присутствие стало для нее таким же естественным, как гул климат-контроля или мягкий свет ламп. Она начала бормотать себе под нос, комментируя свои действия – профессиональный жаргон, заметки, предостережения самой себе.
«Левый верхний квадрант… красный пигмент показывает признаки деструкции… нужно укрепить перед дальнейшей расчисткой… Черный фон стабилен… а вот этот лак… черт, он полимеризовался до состояния камня…»
Она не видела, как при этих ее монологах углы губ Волкова вздрагивали в едва уловимой улыбке. Он видел ее настоящую – увлеченную, страстную, виртуозную. Он видел не просто реставратора, а художника, сражающегося со временем.
К концу дня она добилась первого серьезного результата. Из-под толстого слоя помутневшего лака и позднейшей грубой ретуши проступил небольшой, но четкий фрагмент. Это была не буква. Это был рисунок. Крошечная, изящная ветвь цветущей вишни. Она была скрыта в складках платья, у самого плеча женщины, будто тайный знак, известный лишь избранным.
Вера откинулась на спинку стула, снимая очки для работы с микроскопом. Глаза у нее болели, все тело ломило.
«Смотрите», – прошептала она.
Волков наклонился, заглянул в окуляр. Он замер на несколько секунд, и Вера увидела, как мышцы его спины напряглись.
«Сакура», – произнес он на выдохе. – «Японская вишня.»
«Это… неожиданно», – сказала Вера. – «Для европейской картины конца семнадцатого века…»
«Это меняет все», – перебил он, выпрямляясь. Его лицо было озарено внутренним светом. Одержимость снова взяла верх. – «Это не просто портрет. Это послание. Возможно, художник был путешественником. Или… это была европейка, связанная с Востоком.»
Он начал быстро ходить по лаборатории, его энергия вдруг стала взрывной, почти опасной.
«Нужно провести химический анализ красного пигмента. Возможно, это не кармин, а какой-то восточный пигмент. И чернила для надписи… если это чернила… Глеб!»
Почти мгновенно дверь открылась, и в комнату вошел помощник.
«Арсений Владимирович?»
«Свяжись с лабораторией в Токио. Нужно получить доступ к их базе данных по пигментам периода Эдо. И найди мне всех, кто специализируется на творчестве европейских художников, работавших в Японии в семнадцатом веке.»
«Слушаюсь», – кивнул Глеб и так же бесшумно исчез.
Волков снова повернулся к Вере. Его глаза горели.
«Вы понимаете, что это значит? Мы стоим на пороге открытия. Не просто реставрации. Открытия.»
Вера смотрела на него, и ее охватывало странное чувство. С одной стороны, это было захватывающе. С другой – пугающе. Его одержимость была заразной, но она же и сжигала все на своем пути.
«Это значит, что мы должны быть еще осторожнее, Арсений Владимирович. Один неверный шаг, и мы уничтожим это послание навсегда.»
Его пыл немного угас. Он подошел к столу и снова посмотрел на проступившую ветвь сакуры.
«Вы правы, – сказал он неожиданно мягко. – Терпение. Все великое требует терпения.»
Он посмотрел на ее уставшее лицо, на темные круги под глазами.
«На сегодня достаточно. Вы измучены.»
Она кивнула, не в силах спорить. Собирая инструменты, она почувствовала его взгляд на себе.
«Вера Сергеевна… – он произнес ее имя с необычной интонацией. – Благодарю вас. За сегодня.»
Она подняла на него глаза. «Это моя работа.»
«Нет. То, что вы делаете… это не просто работа. Я это вижу.»
Они стояли друг напротив друга, разделенные реставрационным столом и лежащей на нем тайной. Воздух сгустился, наполнился невысказанными словами, неосознанными желаниями. В этом стерильном, технологичном пространстве вдруг возникла плотная, почти осязаемая связь. Связь через столетия, через краски, через молчание.
Когда она уходила, он проводил ее до двери лаборатории.
«Завтра, – сказал он. – Мы продолжим.»
И в этом простом слове – «продолжим» – прозвучала не просто констатация факта. Прозвучало обещание. Обещание чего-то большего.
По дороге домой Вера не видела ни снега, ни огней города. Перед ее глазами стояли две картины: ветвь сакуры, проступившая сквозь толщу времени, и глаза Арсения Волкова, горящие огнем открытия. Она понимала, что перешла некую грань. Она уже не была просто наемным специалистом. Она стала соучастником. Соучастником его одержимости, его поиска, его тайны.
Дома она заварила крепкий чай и села у окна, глядя на огни города. Ее телефон вибрировал – Артем интересовался, как дела. Она отправила короткое сообщение: «Все хорошо. Работа сложная, но интересная.» Она не могла рассказать ему о сакуре. О его глазах. О том, как ее собственная профессиональная страсть начала переплетаться с чем-то иным, темным и притягательным, как черный фон на картине.
Она взяла свой старый альбом для эскизов и на чистом листе проведи несколько линий. Контур плеча. Изгиб шеи. И ветвь цветущего дерева, проступающую из ниоткуда.
Она думала о женщине с картины. Кто ты? – спрашивала она ее в тишине своей комнаты. – Что связывало тебя с далекой, незнакомой страной? И почему твоя тайна так волнует человека, который спустя столетия стал твоим хранителем?
И самый главный, самый тревожный вопрос вертелся у нее в голове: почему я позволяю этому человеку втягивать себя в свой водоворот? Почему его одержимость становится моей?
Ответа не было. Было только смутное, растущее внутри предчувствие, что ее собственная жизнь, такая упорядоченная и предсказуемая, вот-вот изменится навсегда. И картина, и ее владелец были двумя сторонами одной медали – загадки, в которую она все глубже погружалась.
Засыпая, ей снова почудился шелест. Но на этот раз это был не шелест платья. Это был шелест лепестков сакуры, опадающих в тишине его лаборатории, в сиянии его одержимых глаз. И ей стало страшно. Не потому, что он был опасен. А потому, что ей начало нравиться это чувство – чувство падения в неизвестность.
Глава третья. Подтекст алой киновари
Третий день в особняке Волкова начался с тихого потрясения. Войдя в лабораторию, Вера застыла на пороге. Рядом с реставрационным столом, на одном из вспомогательных столиков, стоял изящный фарфоровый кувшин. И в нем, нарушая стерильную аскетику помещения, пылала ветка цветущей вишни. Нежная, почти невесомая, усыпанная розоватыми соцветиями, она казалось чудом, порожденным самой весной посреди зимнего плена. Воздух был напоен ее тонким, едва уловимым ароматом – горьковатым и сладким одновременно.
Волков стоял у своего окна, наблюдая за ее реакцией. На сей раз он был одет в простую черную рубашку с расстегнутым воротником, и эта неформальность делала его чуть более человечным, чуть менее недосягаемым.
«Напоминание о вчерашней находке», – произнес он, оборачиваясь. В его глазах плескалось нечто новое – не одержимость, а скорее тихое, сдержанное удовлетворение.
«Она… прекрасна», – выдохнула Вера, не в силах отвести взгляд от хрупких цветов. – «Но как?.. Сейчас же зима.»
«Оранжерея», – коротко объяснил он. – «Есть вещи, которые стоят того, чтобы их беречь и лелеять, вопреки законам природы.»
Эти слова прозвучали как философское кредо, применимое ко всему, что его окружало. К картинам. К этой ветке. Возможно, к ней самой.
Она кивнула, сбросила пальто и надела халат. Присутствие живых цветов в комнате, пахнущей химикатами и историей, было диссонансом, но диссонансом волнующим. Оно нарушало жесткие границы, которые он сам же и установил.
Работа закипела с новой силой. Открытие ветви сакуры придало их тихому сотрудничеству новый, стремительный импульс. Вера сосредоточилась на укреплении красочного слоя вокруг этого участка. Она работала с микрокисточками и специальным адгезивом, кропотливо, миллиметр за миллиметром, возвращая хрупкому пигменту былую прочность. Это была работа, требующая дзен-буддистского терпения, и Вера погружалась в нее с головой, отключая все внешние раздражители.
Волков сегодня не сидел пассивно. Он был в движении. Он изучал распечатанные спектрограммы, принесенные Глебом, листал старинные фолианты по истории искусства, которые появлялись в лаборатории как по волшебству. Иногда он подходил и молча ставил перед ней на стол открытую книгу с изображением какого-нибудь восточного артефакта или гравюры европейского путешественника в Японии.
«Смотрите, – говорил он, указывая на деталь костюма. – Этот мотив. Похоже?»
И они вместе вглядывались, сравнивая складки платья «Неизвестной» с изображениями на старых бумагах. Это уже не было отношением «начальник – подчиненный». Это стало совместным расследованием. Они были партнерами, охотниками за призраком прошлого.
Во время одного из таких совместных изучений их головы оказались совсем близко, почти соприкасаясь. Вера чувствовала исходящее от него тепло, слышала его ровное, глубокое дыхание. Она уловила тот же пряный запах сандала, но сегодня к нему примешивался легкий аромат дорогого мыла и чего-то неуловимого, сугубо мужского. Ее сердце забилось чаще, и она с упреком поймала себя на этой физиологической реакции. Она должна быть собранной. Профессиональной.
«Кажется, есть сходство в манере драпировки», – сказала она, отодвигаясь на безопасное расстояние. – «Но это лишь намек. Не доказательство.»
«Намеки – это все, что у нас есть, – ответил он, не отводя от нее взгляда. – Из намеков складывается улика. Из улик – истина.»
«А вам всегда нужна абсолютная истина?» – рискнула она спросить.
Его глаза потемнели. «Всегда. Полуправда хуже лжи. Она искажает картину. А я не терплю искажений.»
Обед в этот день был сервирован не в лаборатории, а в смежной комнате, которую Вера раньше не замечала. Это был небольшой кабинет-библиотека, заставленный книжными шкафами до потолка. В центре стоял круглый стол из темного дерева, накрытый на одну персону. Второй прибор, как она поняла, был для нее.
«Я подумал, что смена обстановки пойдет на пользу», – сказал Волков, придерживая для нее стул. Жест был безупречно вежливым, светским, но в нем чувствовалась железная воля. Он не спрашивал, он предлагал то, что уже решил.
Глеб подавал блюда – томленую телятину с трюфелями, воздушное пюре из сельдерея, салат с рукколой и грушей. Еда, как и всегда, была шедевром кулинарного искусства, но сегодня она не казалась бездушной. Возможно, из-за обстановки. Книги, мягкий свет настольной лампы, тихий треск поленьев в камине – все это создавало иллюзию интимности. Опасной интимности.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.