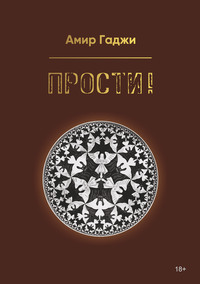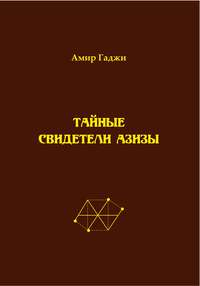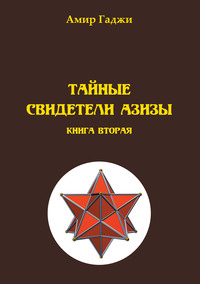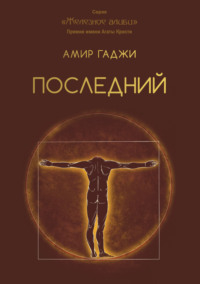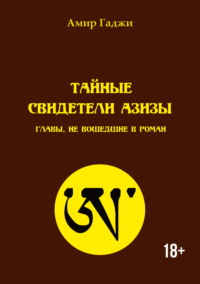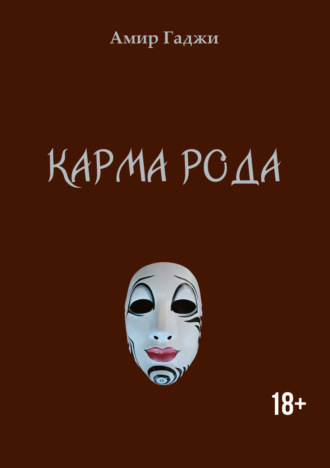
Полная версия
Карма рода

Амир Гаджи
Карма рода
© Амир Гаджи, 2025
© Интернациональный Союз писателей, 2025
Пролог
Уточек, вышитых на ковре, можно показывать другим.
Но игла, которой их вышивали, бесследно ушла из вышивки.
Народная мудростьВо дворце Фонтенбло, расположенном в департаменте Сена и Марна, в семидесяти километрах к юго-востоку от Парижа, старинные напольные часы показывали четыре тридцать утра. Бесшумно, крадучись, как камышовый кот на охоте, император вошёл в женскую спальню, чтобы попрощаться: он уезжал. Взглянул на сладко спящую хозяйку спальни и не стал её тревожить. На высокой кровати под балдахином, кутаясь в китайские шелка, лежал «гадкий утёнок» – креолка из французской колонии Мартиники. Её зовут Жозефина де Богарнэ. Эта дама принадлежала персонально ему, императору французов Наполеону Бонапарту (так, по крайней мере, считал сам носитель этого титула). Он знал, что Жозефина – не красавица, но грация и обаяние превращали её в обворожительную женщину. Её пряный природный запах, улыбка, голос, суждения и прочее, всё то, из чего состояла мадам, были его персональной собственностью. Любвеобильный кавалер ещё раз бросил нежный взгляд на спящую возлюбленную и подошёл к окну. Восхищаясь прекрасной, как невеста, Францией, император убрал левую руку за спину, а правую ладонь привычно сунул за отворот походного сюртука-редингота мышиного цвета. Этот жест рыцарей Тайного Ордена давал ему ощущение всемерной поддержки со стороны Великого Братства, всякий раз упорядочивая его скачущие мысли. Цветущие поздней весной сады его любимого Фонтенбло настраивали Бонапарта на серьёзные размышления о собственном месте в мировой истории, дающем право на бессмертие. Он вспомнил, как во время египетской кампании шальная пуля неприятеля летела ему прямо в лоб, ещё немного и… Лишь за секунду до этого Наполеон наклонился, чтобы подтянуть ботфорты. Пуля убила стоящего сзади офицера. Это не единственный подобный инцидент в его биографии: Провидению явно было угодно сохранять ему жизнь. Ради чего? Если бы он тогда погиб, не состоялось бы передела Европы и заморских территорий, а на сегодняшней карте мира было бы десятком государств меньше.
– C’est la vie![1] – прошептал он, коверкая французские слова до сих пор не изжитым итальянским акцентом. – Сколько ни вычёркивать, ни выпускать и ни искажать, после того, что я сделал, меня трудно стереть с лица земли. Мои подвиги говорят сами за себя, они сияют, как солнце![2]
За окном майский Фонтенбло ещё досматривал счастливые сны, а Наполеон Бонапарт готовился отправиться к Великой армии. Более четырёхсот тысяч человек, включая солдат и офицеров многих европейских стран-сателлитов, были собраны на границе Российской империи. Уверенные в себе, сытые, дерзкие, вооружённые до зубов образцы европейской цивилизации. Каждый из них надеялся получить свою долю от богатств московских царей в качестве военных трофеев. Всё доступно – бери не хочу! По другую сторону границы их ожидало двести двадцать тысяч русских во главе с «северным Тальма или настоящим византийцем», так Наполеон называл Александра I. Бонапарт был гениальным полководцем, и ни с чем не сравнимое предвкушение победы не оставляло сомнений: Великая Франция триумфально сокрушит лапотную Россию ещё до начала осенних дождей. Мысленно он уже представлял, как простирается далеко на восток Французская империя, а верные поданные восславляют его имя. В этот момент старинные часы пробили пять раз. Всё, пора! Наполеон вышел из спальни. Уже садясь в личную золотую карету, построенную знаменитым каретником Мишелем Бертье, он оглянулся на окно Жозефины. О боже! Она стояла в роскошной кашемировой шали с плеч наложницы египетского правителя – его приз, военная добыча из поверженного Каира, его подарок ей.
Она сияла, как заря, и благосклонно посылала ему воздушный поцелуй. Эта трогательная романтическая сцена сопровождала влюблённого Наполеона весь следующий день: «Жозефина стала неотъемлемой частью моей жизни, мною самим». Люди из ближайшего окружения давали ему понять, что подобное поведение для женатого на другой женщине военачальника есть серьёзный недостаток. Полководец не имеет права на человеческие слабости, а привязанность к любовнице – это, конечно, проявление слабости. Но не терпящий возражений эпатажный диктатор умел превращать любой недостаток в своё достоинство. Спустя несколько месяцев Наполеон въехал в Московский Кремль.
До прихода французов московский чертог был одной из величайших архитектурных жемчужин Европы, подлинной сокровищницей искусства и истории. Здесь были сосредоточены богатейшие коллекции живописи, скульптуры и прикладного искусства. Алчные нечестивцы бесстыдно грабили православные храмы, устраивая в них конюшни. Не чувствуя греха, они уродовали мощи святых. Гробницы наполняли нечистотами, отравляя миазмами окружающий воздух. Утратив право на покаяние, они умышленно ломали и пачкали иконы «дикарей», украшавшие церкви. В Успенском соборе, главном соборе государства, духовном центре Кремля и всей Москвы, усыпальнице патриархов и месте свершения таинства коронации императоров России, мерзавцы соорудили стойла для лошадей французского императора. Здесь же установили плавильные печи для переплавки золота и серебра из награбленных церковных сокровищ, риз и окладов. Вместо паникадила установили большие весы, на которых взвешивали готовые слитки. Презирая всё праведно-русское, непостижимо монструозная Франция воровала в промышленных масштабах. После чудовищного святотатства, разграбления и недельного пожарища, по мнению многих, прежняя Москва перестала существовать. Отпетые подлецы французы праздновали победу. Однако тут последовал очередной удар по самолюбию Наполеона: находившийся в Санкт-Петербурге император Александр I оставил без внимания как его послание, так и присланные дары. Первым подобным ударом можно считать отказ Александра I выдать свою дочь замуж за «выскочку с Корсики», прикрывавшегося маской благочестия. В тот ужасный день своего унижения Наполеон видел ухмылки русского двора: «Солдафон, коротышка – от горшка два вершка, неровня русской царевне». С тех пор он тщеславно грезил покорением России любой ценой: «Paris vaut bien une messe»[3]. Разочарованный триумфатор и мечтатель о безграничной власти над миром оставил разграбленную, безлюдную и сожжённую Москву, чтобы спешно покинуть пределы России. В этот раз он не стал писать Жозефине традиционного послания: «Перестань мыться, я возвращаюсь домой» (запах месяцами не мытой креолки возбуждал его, словно опиум). Спектакль окончен. Упал занавес, а за ним и декорации.
* * *По Крутицкой улице, близ горящего Успенского собора, шёл командир роты французских гренадёров линейного полка капитан Готье Дюпре. Он возвращался к своим солдатам с распоряжением полковника Барбье: «Согласно приказу императора, завтра в шесть часов утра нам надлежит оставить догорать эту проклятую Москву и покинуть Россию – страшную страну скифов. Двигаться будем по знакомой нам Старой Калужской дороге». Кутаясь в украденный женский заячий полушубок, Дюпре думал о предстоящем походе: «Наши повозки полны слитков чистого золота и серебра, природных алмазов, уникальных украшений из драгоценных камней, произведений искусства, живописи, китайского фарфора, элитного оружия и прочей наживы. Таких повозок мы приготовили более пятнадцати тысяч. Но в армейском обозе нет пуль, пороха, ядер для пушек, провианта, зимней одежды и обуви, а также нет никаких лекарств. Через неделю в Россию придёт зима, резко упадёт температура, а с ней и дисциплина во французской армии. Обязательно появятся дезертиры. Через две недели мы съедим своих лошадей, потом бродячих собак и кошек. Через три недели, если не умрём от голода, не замёрзнем на русском морозе, все сдохнем от тифа». Мимо него проехали два гренадёра из соседнего полка, сидящие на повозке, перегруженной всяким дорогостоящим барахлом. С повозки упала небольшая изящная коробка. Пьяные мародёры даже не остановились, рассмеялись в голос и, довольные собой, панибратски поприветствовали капитана «ручками». Пресыщенный воин хуже голодного, он способен на любые неадекватные поступки. Сейчас капитан Дюпре ещё не знал, что очень скоро он вновь встретит этих оболтусов умирающими и молящими о пощаде на поле боя – ужасном месте страха и мертвечины, оставленном Богом. Он открыл коробку, там лежала завёрнутая в белый шёлк икона, обыкновенная православная икона, каких много в этой варварской стране. Он решил оставить её себе как сувенир, безделицу, не более того. Готье Дюпре не нравилась вакханалия, устроенная его соплеменниками в Москве: «Это недостойно французов. Да, русские глупые и дикие, но они имеют право на свою собственную жизнь. Это не они пришли во Францию со своей примитивной верой и культурой, это мы ворвались в их дом грабить, а всё, что не возможно унести, – сжечь. Покорить Россию – тщета надежд. Как говорил мой отец: не ешьте чужую еду больше, чем свою, и не ходите туда, куда вас не приглашают. Придёт час, и русские нам отомстят». Он поднял воротник чужого полушубка и побрёл в свой полк. Дюпре был прав, под Вязьмой русские разобьют Великую армию, а «никчёмная» икона поведёт его через ад, как Вергилий Данте, и спасёт ему жизнь. То, что он нёс под мышкой, был список Иверской иконы Божией Матери – изображение Пречистой с Младенцем, написанное евангелистом Лукой. Этот тип иконографии назывался Одигитрией, что в переводе с греческого означает Путеводительница. Подобные списки разошлись по всему миру, но первообраз древней иконы, оказавшись чудесным образом на горе Афон, в мужской обители, тысячу лет назад, никогда не покидал Святую гору.
Наполеон решил безотлагательно отправиться в Париж. Проявляя крысиную хитрость, он оставил на маршала Иоахима Мюрата побеждённую, униженную, больную и голодную французскую армию, теперь представляющую собой омерзительное безобразие – жалкую вонючую кучку оборванцев, бредущих по российскому бездорожью на запад, в небытие.
Через пару лет «Византиец» торжественно въедет в Париж на жеребце Эклипсе, который был подарен ему Наполеоном в 1807 году в честь Тильзитского мирного договора. Наполеон Бонапарт отречётся от трона, и Франция капитулирует. Вошедшие в столицу Франции «варвары» казаки́ не будут жечь город, грабить и убивать горожан, откажутся оплодотворять назойливых кокоток. Гуляющему по Парижу без охраны императору Александру I пылкие парижанки наперебой будут бросаться в ноги, чтобы поцеловать сапоги. Нечаянно утопленную в Вилейских болотах наполеоновскую золотую карету работы Мишеля Бертье не станут искать и поднимать на поверхность за ненадобностью. За несколько лет до нападения на Россию Наполеон распорядился построить Триумфальную арку в восьмом округе Парижа в честь побед его Великой армии. Под аркой он хотел проехать после блестящего разгрома русских. Бонапарт действительно проедет под ней, но в гробу, возвращаясь в Париж из плена. Его тело навечно поместят в Доме инвалидов в саркофаге из красного российского кварцита.
Глава первая
Истоки
Человек готов к познанию мира, когда впервые задаёт себе вопрос о том, что такое смерть.
Японская мудростьПобеда над Наполеоном вдохновила всю Россию на возрождение своей столицы. Оказалось, чтобы свершить чудо и дать Москве новую жизнь, её вначале надо было сжечь. Отныне Москва никогда и никому не позволит себя поработить. Говоря словами поэта:
Но в искушеньях долгой кары,Перетерпев судьбы удары,Окрепла Русь.Так тяжкий млат,Дробя стекло, куёт булат.Российский император Александр I учредил Комиссию для строения Москвы. На ближайшие годы город превратился в грандиозную стройку. Это было золотое время для предприимчивых людей. Первый российский Аптекарский устав открыл путь для развития сети аптек по всей империи. В те времена содержать аптеку было благородным и весьма доходным занятием. Супруги Зимины уже имели небольшой опыт аптекарской деятельности и сейчас взялись за дело с умом. Антон (полное имя – Антоний) – сын известного в России коммерсанта Павла Зимина и его благоверная Прасковья – дочь предводителя дворянства Вязьмы Смоленской губернии выхлопотали долгосрочный денежный кредит и вскоре в центре Москвы, на углу Большого и Малого Харитоньевских переулков, возвели презентабельное двухэтажное здание. Напротив стоял дом тётушки Татьяны Лариной, упомянутый в романе «Евгений Онегин». Кстати сказать, в этом доме когда-то жил и сам автор романа – Александр Сергеевич Пушкин. На втором этаже дома Зиминых располагались апартаменты хозяев. Первый этаж был отдан под торговый зал аптеки, в цокольном помещении обустроили современную лабораторию, а на задворках были пристроены скромный домик для прислуги, лабаз и конюшня. В красном углу залы второго этажа водрузили семейную реликвию – Иверскую икону Божией Матери, Пречистую с Младенцем. В своё время эта икона была торжественно вручена Антону Павловичу как важная часть приданого невесты Прасковьи. С этого дня икона будет передаваться в семье Зиминых по наследству.
Далёкие предки Антона Павловича были выходцами из Пруссии и носили фамилию Зиммер (Simmer). В 1763 году тридцатитрёхлетняя Екатерина Вторая – Божьей милостью императрица и самодержица всероссийская – издала манифест о позволении иностранцам селиться в России. Этот манифест сулил переселенцам многочисленные льготы: освобождение от воинской службы и налогов, беспроцентные ссуды и наделение землёй. Но главное, царица распахнула ворота для всех иноверцев. Для семьи лютеран Зиммер открылась перспектива изменить свою жизнь к лучшему, покончив соседство с местными католиками, проявляющими к ним неприязнь. Соседей-католиков раздражало у лютеран буквально всё, в том числе алое сердце розы в символике Мартина Лютера. Древний магический цветок, пришедший в Европу с Востока, породил много спекуляций на тему связи между Реформацией и деятельностью масонского Братства. Кроме того, католическая церковь стремилась ограничить простых верующих в самостоятельном изучении Святой Библии, а людям присуща жажда познания, в этом и есть суть человека. Всё это порождало конфликты между соседями на религиозной почве. После недолгих совещаний и сборов они вместе со своими соплеменниками-протестантами перебрались на постоянное жительство в Руте́нию, так по старинке они называли Россию. Переселенцы поверили заверениям сановной немецкой принцессы из дома Ангальт-Цербст. Русские не могли понять языка приезжих чужеземцев и поэтому звали их древнерусским словом «нhмьць», то есть люди, говорящие непонятно. В те годы многие приезжие немцы быстро выучили русский язык и обрусели не без пользы для России, однако они всё равно оставались «немцами». Прадед Антона Павловича не хотел быть «немчурой» и даже поменял свою религию на православную. Для него это не было предательством лютеранской церкви и не вызвало душевных терзаний. Он считал, что основной причиной раскола христианской церкви на папство и константинопольскую патриархию стал конфликт между иерархами. Они банально не поделили власть над паствой. Затем эту ссору обрядили, как рождественскую ёлку мишурой, различными богословскими, каноническими и политическими разногласиями и с тех пор искренно верят в неверное. Все последующие века противоречия только множились. Это было началом гибели веры, которое в конце концов приведёт к тотальному сатанизму[4], а затем и к физической гибели всего христианского мира. Остановить этот поток безумия, наверное, мог бы Иисус Христос, но ему не пробиться наверх к церковному начальству.
Свою древнюю фамилию Зиммер прадед сменил на созвучную Зимин, что, на его взгляд, было удобоваримо для русского слуха. Своим потомкам он велел давать только православные имена, а мужчинам их рода жениться исключительно на русских девушках. С тех пор Зимины стали русскими. Они старались не выказывать свои древние тевтонские корни, которые не давали забыть, кто они есть такие. Зимины не подозревали, что каждый из них обладал уникальным кодом своей индивидуальности – кодом ДНК, в котором зашифрованы все параметры его организма. У них всё было хорошо. Один из родственников даже служил доезжачим на псарне великого князя Константина Павловича.
Немец – человек готический, ориентированный по вертикали, и ценности понимает не в значении «больше», а в значении «лучше». Любой готический собор, образно говоря, предлагает каждому христианину подняться к Богу наверх, а не просить Его спуститься вниз, как принято в других конфессиях. Немец не дожидается «Рая Небесного», а создаёт его здесь и сейчас. Зимину хотелось, чтобы его аптека была лучшей в Европе или хотя бы в Москве. Очевидно, такое желание и есть результат проделок тевтонского культурного кода в его русской крови: «Всё, что я делаю, я делаю лучше, чем у других». Для достижения своей цели Антон Павлович поехал в Ревель (будущий Таллин) посмотреть «Ратушную» – знаменитую и самую старую европейскую аптеку. Она была открыта в 1415 году и до сих пор располагается напротив местной ратуши, отсюда и её название. Здесь он познакомился с её нынешним хозяином Иоганном Бурхардтом, который впоследствии стал хорошим другом семьи Зиминых. Из Ревеля Антон Павлович привёз передовые идеи организации аптечного дела. Торговый зал своей аптеки Зимины выстроили по европейским стандартам. Всё необходимое оборудование и инвентарь привезли из Германии. Аптечные банки, вазы, разноцветные штангласы[5], мерные кувшины, бокалы, реторты и стеклянные колбы с длинным горлышком были изготовлены специально по их заказу на минских мануфактурах. К аптечному делу Зимины привлекли давешних знакомцев супругов Михайловых – Никифора и Матрёну, которые жили в глуши Калужской губернии, в деревне Торусы, на левом берегу Оки, при впадении в неё речки Торуски. Этот заповедный уголок России простирался вдали от больших городов (например, до Москвы полторы сотни вёрст бездорожьем). Здесь в обилии сохранилось разнообразие лечебных растений, необходимых для приготовления лекарств, и кроме того, жили потомственные ведуньи и травники, которые владели секретами целебных трав. Они бережно хранили свои рецепты и, скрывая их от посторонних, передавали по наследству. Михайловы были тамошние коренные и доподлинно знали, где на заливных лугах по Оке и Торуске произрастали травы и цветы, какие не везде встретишь в средней полосе России. Это аспарагус, энотера (здесь её зовут «ослинник»), шалфей, ломонос, редкостный кирказон, орхидеи и многие другие по-настоящему редкие растения. Каждое лето и в определённое время суток, что немаловажно, Никифор и Матрёна собирали нужные растения и готовили из них отвары и настойки. Продукцию отправляли нарочным в Москву. Здесь её разливали в красочные сосуды и снабжали инструкцией по применению. Лекарства были эффективны и пользовались спросом, хотя стоили недёшево. Дела пошли в гору. Очень скоро Зимины и Михайловы объединили свои капиталы и стали полноправными совладельцами аптечного дела.
Ещё в XVII веке государь даровал своим подданным небольшие земельные участки. Дарованною землю называли «дачей». Зиминым дача досталась за пределами Торусы, на высоком берегу Оки. Позже Зимины решили построить здесь скромный загородный дом, который они называли новомодным словом «дача». Антон Павлович подошёл к строительству дома на своей даче с немецкой щепетильностью. По рекомендации своего друга поехал в далёкую татарскую деревню, где встретился с Исмаилом – бригадиром строителей. Этот пожилой и опытный специалист имел бригаду из шести непьющих мусульман. Зимин свозил Исмаила в Торусы и показал место будущей стройки. Обсудили проект дома с учётом пожеланий заказчика, сделали замеры, составили смету, утвердили сроки сдачи объекта. Это будет пятистенный сосновый сруб с часовней внутри и каменным цокольным этажом в два метра высотой. Дом был готов первого ноября. Со словами «Храни вас Аллах» довольные заработанными деньгами строители покинули Торусы. Антон Павлович впервые показал дачу Прасковье. Когда они вошли в часовню, он перешёл на шёпот:
– Под этой часовней мы будем хранить наш неприкосновенный золотой запас. Всё знать о нашем запасе будем только мы с тобой. Когда умрёт последний из нас, о хранилище узнают наши наследники. Должны узнать, только когда умрёт последний из нас!
– А как они узнают, если мы уже умрём? – прошептала Прасковья.
– Я позаботился об этом.
В промозглые дни 1816 года, который из-за невиданно холодного лета называли «годом без лета», у Зиминых родились поскрёбыши, двойня, мальчики. Новорождённые привнесли в родительский дом большие надежды на будущее благополучие. Ведь недаром говорится: «Поздние дети особенно умны». Малюток крестили по православному обряду в церкви Архангела Гавриила на Чистых прудах. Старшего, он родился первым, нарекли Фомой, а младшего, рождённого час спустя, Николаем. С появлением в доме малышей вечный домашний труд, и так самый что ни на есть неблагодарный, стал для Прасковьи невмоготу. Нужна была помощница – присматривать за детьми и вести домашнее хозяйство. Антон Павлович по рекомендации Михайловых выписал из Торусы семнадцатилетнюю сироту Варвару, мягкого и доброжелательного нрава, соломенную вдову из посадских. Год назад её муж Григорий был рекрутирован в сухопутные войска в качестве пионера[6]. Сиротой Варвара стала несколько лет назад, строго говоря, в одночасье. Её родители и младший брат, вероятно, случайно выпили гнилую воду, одновременно заразились брюшным тифом и вскоре умерли один за другим. Сама Варвара уцелела чудом потому, что в ту пору находилась в восемнадцати вёрстах от Торусы, работая на Юрятинской мельнице купцов второй гильдии братьев Бобровых.
После поминок по усопшим к Варваре подошла Авдотья Додонова, в девичестве Астахова, с предложением выйти замуж за её единственного сына Григория. Юный возраст девушки никого не смущал, в деревне невесты созревают рано. В таких обстоятельствах это предложение было вполне уместным, поскольку Авдотья сама не снимала траур по давно погибшему мужу. Он по собственному недосмотру утонул, плавая в Оке. Авдотья сказала Варваре, что нет горше жизни, чем жизнь в сиротстве. Её сын даст ей защиту и опору, а сама Авдотья получит внуков, так много, сколько даст им Господь Бог. Не было оснований не верить словам Авдотьи. Каждый, кто худо-бедно знал Авдотью Додонову, мог отметить её железный характер, который она в полной мере унаследовала от своей знаменитой бабушки Марии Астаховой, известной на Дону ведуньи. Казачка Авдотья родилась на Дону, в станице Усть-Медведицкой, а её будущий муж казак Степан – в Макеевке. Между этими точками расстояние почти шестьсот вёрст. Казалось, у молодых людей не было шанса познакомиться. Но шальной ветер судьбы привёл их разными путями и в разное время в Торусы. Здесь они встретились и обвенчались. У каждого из них характер был не сахар, и обычно таким людям не ужиться вместе, но они ладили. Их объединяло страстное желание иметь ребёнка, и не просто ребёнка, а сына. Шли годы, они старели, а дитя не рождалось. Видимо, для Бога их заказ был слишком трудным или вовсе невыполнимым. Эти две огненные личности могли родить лишь неуправляемый и разрушительный вулкан. В конце концов чудо свершилось, у них родился мальчик. Через год погиб Степан, и Авдотья осталась воспитывать сына одна. К счастью, характер Григория был полностью противоположен родительским. Мальчик вырос в нежного, влюбчивого и тонко чувствующего окружающий мир мужчину. Таким Григорий предстал перед Варварой. Вскоре красивая влюблённая пара, Григорий и Варвара, была обвенчана в местном православном храме. Сыграли скромную свадьбу, а спозаранку следующего дня Григорий уехал на войну. Иногда бывает, что одной брачной ночи недостаточно для зачатия ребёночка, и Варвара осталась порожней. Прошёл год, от Григория никаких известий. Кто знает, может быть, он давно сгинул в жерле очередной войны. Свекровь не осталась безучастной к судьбе несчастной Варвары и одобрила предложение соседей Михайловых рекомендовать Варвару служанкой в богатый дом Зиминых. Трудолюбивая и добропорядочная девушка заслужила доверие Зиминых и явственно ощущала себя членом их семьи.
Однажды вечером Варвара с опухшими от слёз глазами рассказала матушке Прасковье о том, что из армии досрочно вернулся её муж, за какую-то провинность понёсший наказание шпицрутенами.
– Гришу оголили по пояс, вывели на плац, где в две шеренги были выстроены солдаты со шпицрутенами. Впереди шёл унтер-офицер с прикладом ружья, направленным к груди осуждённого, чтобы регулировать темп движения, позади – барабанщик, отбивающий шаг. Так Гриша был прогнан сквозь строй, получая удар от каждого солдата по обнажённой спине.
После подобной экзекуции мало кто выживал, а Григорий чудом уцелел. Его признали негодным к воинской службе и отпустили домой.
– Я вся изревелась, когда свиделись с ним, а свекровь вмиг превратилась в серую каменную глыбу с остекленевшим взором. Никогда такого не видела. Уезжал Григорий ражий красавец, румянец во всю щеку, крепкий, горбоносый, как сажа чернявые кудри. Словом, надёжа покоить её материнскую старость, а домой вернулся колченогий калека, глазам больно смотреть. Свекровь молитвами и травами выхаживала сваво сына. Это и понятно, он для матери свет в окне. Она в нём души не чает. Денно и нощно думает о нём и молит Господа Бога спасти и защитить его. Нынче, слава богу, Гриша исцелился. Кажись, обошлось, окромя души. Внутри него огонь погас. Остыл он к жизни, будто кто-то душу из него закогтил. Я вижу, меня он по-прежнему любит, а как женщину не желает. Он годами не старый, а изнемог. Я как-то тайком подсмотрела у него. Всё на месте, а не желает. Боюсь спросить, неужто у меня что-то не так. Не дай бог обижу. Как я без этого самого дела ребёночка буду рожать? Однако подождём. Потихоньку-полегонечку, может, даст бог, пройдёт.