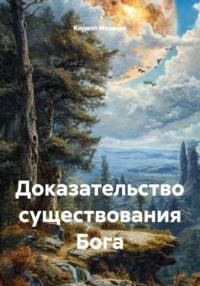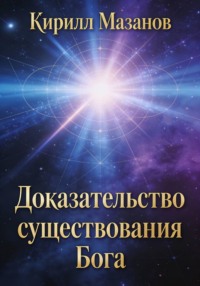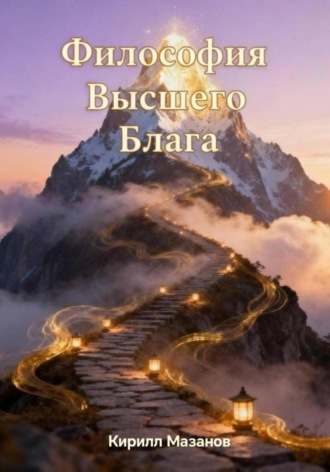
Полная версия
Философия Высшего Блага
Кроме того, применяя теорему о подобных треугольниках, Фалес вычислял расстояние от берега до плывущего корабля, установил, что угол, опирающийся на диаметр окружности, всегда равен 90°, и сделал ряд других открытий. Фалес считался одним из мудрейших людей Эллады и вошёл в число «семи мудрецов».
Про Фалеса ходит множество баек. Одну из них приводит Платон в диалоге «Теэтет»:
«На примере Фалеса, наблюдавшего за звёздами, понятно это, Феодор! Заглядевшись однажды на небо, он упал в колодец, а фракиянка одна, благопристойная и прелестная служанка, как рассказывают, посмеялась над ним: жаждет-де знать, что на небе происходит, и не замечает, что у него перед носом и под ногами. Эта насмешка относится ко всем, кто проводит время в философствовании. Такой человек действительно не осведомлён ни о ближнем своём, ни о соседе и не только не знает, что он делает, но и человек ли он вообще или какое-нибудь животное. А между тем предметом его поисков и неутомимого исследования в отличие от других является вопрос о том, что такое человек и что присуще его природе».
В ответ на обвинения в непрактичности занятий философией Фалес однажды дал блестящий пример. Он, предвидя на основании астрономических наблюдений богатый урожай оливок, ещё зимой внёс задатки владельцам маслобоен в Милете и на Хиосе, законтрактовав их дешево, поскольку конкурентов не было. Когда наступило время сбора урожая и маслобойни понадобились сразу многим, Фалес сдавал их на своих условиях и собрал значительные деньги. Так он доказал, что философы при желании могут легко разбогатеть, но богатство не является целью их стремлений.
Эта история приводится уже Аристотелем в «Политике» и служит доказательством не только мудрости Фалеса, но и практической силы философского знания.
Чем ещё занимались древнегреческие философы, среди которых был Фалес, помимо математики? Они искали первоначало и первопричину всех вещей – то, что называли «архэ» (ἀρχή). Это начало должно существовать, если мы доверяем здравому смыслу и законам логики, которые позволяют надёжно и достоверно объяснять процессы реального мира.
Для науки крайне важно считать, что установленная причинно-следственная связь действительно отражает действительность: что определённые причины по законам физики порождают определённые следствия. Что это не иллюзия и не случайная корреляция, а устойчивая закономерность, которая воспроизводится при каждом повторении эксперимента. Иными словами, наука ищет предсказуемость явлений – и именно её обеспечивают открытые законы.
Поэтому мудрый человек, стремящийся понять истоки всего сущего, не может ограничиться ответом, подобным тому, что дал Бертран Рассел: «Вселенная просто есть и всё». Такая фраза ничего не объясняет. Если Вселенная «просто есть», то и все происходящие в ней события также «просто есть». В таком случае любые поиски причинно-следственных связей превращались бы в иллюзию и ошибку post hoc, ergo propter hoc[4]. Тогда наука перестала бы быть наукой и превратилась в разновидность мистицизма или удачливой астрологии. В этом случае её успехи объяснялись бы не соответствием реальности, а лишь «улыбкой Фортуны», которая по природе своей переменчива и ненадёжна.
Вообще говоря, поиск истины не входит в сферу интересов и компетенции науки, как бы странно это ни звучало на первый взгляд. Согласно критерию Карла Поппера, научной может считаться лишь та теория, которая потенциально опровержима, то есть допускает проверку и в случае несоответствия фактам может быть опровергнута. Поэтому любое научное знание постоянно нуждается в проверках и испытаниях. Истина же по определению – это то, что верно при любых обстоятельствах. А значит, её невозможно опровергнуть. Следовательно, хотя объективная истина и существует, в строгом попперовском смысле она не является «научной». Наука может помогать человеку приближаться к истине, но сама истина никогда не становится её прямым предметом. Философия же делает истину главным объектом поиска. Именно поэтому она стоит над всеми другими дисциплинами и по праву наряду с математикой носит титул «царицы наук».
Стремление к истине – это не черта науки, а сущность традиционной философии, берущей начало в поиске первоначала всего сущего. Любовь к мудрости неразрывно связана со стремлением познать а высшее основание всего существующего. Поэтому философию вряд ли можно назвать «наукой» в узком смысле слова: она выходит за пределы частных дисциплин и их прагматических задач, стремясь постичь то, что остаётся истинным при любых обстоятельствах. Наука же, по сравнению с философией, куда более приземлённа: её знания справедливы лишь постольку, поскольку таковы данные условия и обстоятельства.
Греки, будучи философами, активно искали истину и первоначало всего. Фалес считал, что первоначалом является вода, поскольку она – самая бесформенная из четырёх стихий (огонь, вода, земля, воздух). Анаксимандр полагал, что эти четыре стихии сами возникли из абсолютно неопределённой первостихии, которую он назвал «апейрон», и именно она была истинным началом всего. Анаксимен же видел архэ в воздухе. Гераклит обосновывал, что, так как всё течёт и изменяется (ему принадлежат ставшие пословицей слова: «нельзя войти в одну и ту же реку дважды»), то из стихий именно огонь наиболее соответствует этой природе: он не течёт, как вода, не рассеивается, как воздух, и не служит материалом, как земля. Пока он есть – он просто горит. Однако истинным первоначалом Гераклит считал всё же не сам огонь, а Логос – загадочный и неизменный закон мироздания, который, оставаясь неизменным, поддерживает и создаёт порядок в этом изменчивом мире.
Здесь есть важный и тонкий момент, делающий открытие Гераклита особенно значимым. Очевидно, что всё изменяется во времени. Но эти изменения не хаотичны, как в сюрреалистическом сне или галлюцинаторном бреду, а подчинены порядку: на яблоне всегда вырастут яблоки, а не груши или апельсины; вода при низкой температуре превратится в лёд и выпадет снегом, но никогда не превратится в золото и не польётся дождём из золотых монет, даже в самую суровую зиму. Что же обеспечивает такую упорядоченность? Гераклит понял: она объясняется неизменностью самого закона – Логоса, по которому происходят все изменения. Если этот закон не меняется, значит, он находится вне времени. А раз он вне времени, то его существование обусловлено им самим: он является причиной самого себя. Иными словами, именно он и есть то самое архэ, первопричина.
«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος…»[5] – именно эту гераклитову идею продолжает автор Евангелия от Иоанна в самой первой строке. И далее уточняет: «…καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος»[6].
Нетрудно заметить, что если объективная истина существует, а по определению она вечна и неизменна, то именно Логос, остающийся неизменным среди всеобщего течения и перемен, и есть та самая первопричина. Таким образом, Логос оказывается не только исходным началом всего сущего, но и самой природой единственной объективной истины, существование которой позднее обосновывали Платон и Сократ.
Теперь рассмотрим определение Бога в теистических религиях. Бог – это Тот, кто не зависит ни от чего и ни от кого, кроме самого Себя. Напротив, всё существующее зависит от Него. Если бы Бог был обусловлен какой-либо первопричиной, то это уже не был бы Бог. Следовательно, именно Бог и есть та самая первопричина, Логос и объективная истина.
В Евангелии от Иоанна Логос отождествляется с Иисусом Христом, который, согласно христианской доктрине, единосущен Богу-Отцу. Поэтому далее в этом же Евангелии (Ин 14:6) Христос говорит: «Я есмь путь и истина[7], и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ).
Помимо всего сказанного выше, у древних греков был ещё один серьёзный претендент на роль первоначала – число. Его почитали и даже обожествляли последователи Пифагора. Это было связано с бурным развитием математики, которое началось в Элладе в то самое «осевое время» и само по себе представляет отдельную увлекательную историю.
Хотя люди умели считать предметы ещё в глубокой древности, понятие полностью абстрактного числа изначально отсутствовало. Человек оперировал лишь количествами однородных предметов: «три человека», «три овцы», «три топора». При этом для разных предметов часто использовались разные слова: «один человек», «одна овца»; «два человека», «две овцы» и т. д. Анализ языков первобытных народностей это подтверждает.
Открытие числа как объекта высокой степени абстракции стало переломным моментом в мировоззрении человечества. Вот как описывает этот переход Микаэль Лонэ в своём романе о математике:
«Времена изменились, и с начала третьего тысячелетия до н. э. наступил новый исторический этап: числа стали существовать автономно от описываемого ими объекта. Раньше, когда использовались запечатанные сосуды и первые таблички, символы относились к конкретным предметам… Но в один прекрасный момент всё изменилось. У чисел появились обозначения. Иными словами, чтобы описать восемь овец, теперь можно было не использовать восемь символов, изображающих овцу, а вместо этого изобразить знак для числа восемь и рядом с ним символ овцы. А если требовалось описать восемь свиней, достаточно было заменить символ овцы на символ свиньи. Число восемь отныне приобрело собственное значение…
Это один из наиболее важных и невероятных этапов истории. Если бы меня попросили назвать дату появления математики, то я без колебаний назвал бы именно эту. Вот тот самый момент, когда числа начинают существовать самостоятельно от исчисляемых ими предметов, отрываясь тем самым от реальных объектов и переходя в разряд умозрительного. Все, что было раньше – рубила, узоры, жетоны, – это только предпосылки, предшествовавшие неизбежному зарождению чисел. С этих пор числа перешли в разряд абстракции, и со временем сформировалось единообразие в математике, науке, в наивысшей степени абстрактной. Математики не изучают физические объекты, состоящие из соответствующих веществ и атомов. Они рассматривают только идеи. Тем не менее эти идеи имеют огромное значение для лучшего понимания мира!»
Для пифагорейцев открытие числа как самостоятельной сущности стало настоящим откровением. Они увидели в нём не просто удобный инструмент для счета, но саму основу всего мироздания. Ведь числа позволяли описывать закономерности и гармонию, скрытые в природе: ритмы музыки, пропорции в архитектуре, циклы небесных тел.
Так возникла знаменитая пифагорейская идея о том, что «всё есть число». Мир представлялся им как некий космос – упорядоченное целое, в котором господствует гармония. И эта гармония выражается через числовые отношения. Пифагорейцы открыли, что приятные для слуха музыкальные интервалы соответствуют простым числовым соотношениям длин струн (1:2, 2:3, 3:4). Это стало для них наглядным доказательством того, что сама красота и порядок в природе зиждутся на числах.
Дальше эта мысль получила почти мистическое развитие: Пифагор и его ученики говорили о «музыке сфер», полагая, что движение небесных тел также подчинено числовым гармониям, хотя человек не способен их услышать. Таким образом, число стало для них архэ не в метафорическом, а в самом прямом смысле – универсальным принципом, объясняющим и материю, и форму, и красоту, и саму структуру космоса.
«Я полагаю, – писал Бертран Рассел, – что математика является главным источником веры в вечную и точную истину, как и в сверхчувственный интеллигибельный мир[8]. Геометрия имеет дело с точными окружностями, но ни один чувственный объект не является абсолютно круглым; и как бы тщательно мы ни пользовались циркулем, полученные линии всегда будут в той или иной мере несовершенными. Это наталкивает на предположение, что всякое точное размышление имеет дело с идеалом, противостоящим чувственным объектам».
Число нельзя увидеть, потрогать, услышать или понюхать. Это чисто умозрительный объект, доступный только разуму. Однако то, что число существует не только в нашем воображении, но и в самой реальности, подтверждается удивительной эффективностью математики в описании мира.
Подобно этому, логос существует не только в нашем воображении, но и в самой реальности, не позволяя изменяющейся и движущейся Вселенной скатываться в хаос. Это закон и правило, по которому существует Вселенная и которое старше Вселенной. И находится он в Божественном Разуме, как замысел, по которому и было создано всё, что сотворено и пребывает в целом в некоем постоянном и упорядоченном движении в соответствии с Вечным Замыслом.
Познай самого себя и вспомни всё
Можно с уверенностью сказать, что Платон (настоящее имя – Аристокл) был самым выдающимся учеником Сократа. Он встретил своего учителя в двадцать лет и оставался рядом с ним восемь лет – до самой смерти Сократа. Всё, что мы знаем о Сократе, дошло до нас благодаря Платону, ведь сам философ принципиально ничего не записывал. Сократ считал запись вредной: едва изложив мысль на бумаге, человек тут же склонен забыть её. А понятия, по его убеждению, нужно удерживать в уме, чтобы они выстраивались в систему и таким образом вели к познанию истины.
Перед Платоном встал выбор: следовать наставлениям учителя и не записывать ничего или же рискнуть и оставить его учение потомкам. Он нашёл выход – оформил мысли Сократа в жанре диалога, который оказался удивительно удачным. С одной стороны, Платон сохранял память о наставнике, а с другой – там не было уж совсем готовых мыслей, только намёки на то, что было сказано им, Платоном, устно в стенах Академии своим ученикам.
Продолжив дело Сократа в поиске объективной истины, Платон предложил миру открытия настолько смелые и непривычные, что они бросали вызов не только укладу жизни, но и традиционной древнегреческой религии. В случае же упрёков со стороны сограждан он мог сослаться на то, что лишь записывает слова учителя. Так в его диалогах появился знаменитый «литературный Сократ» – образ, в уста которого Платон вкладывал собственные гениальные мысли.
Но всё это произошло позже. А пока после смерти Сократа его ученики, среди которых был и Платон, собрались в Мегаре, где жили Евклид и Терпсион, чтобы, возможно, последний раз увидеться друг с другом и затем разъехаться по разным городам. Для всех теперь начиналась самостоятельная жизнь.
Платон, тяжело переживавший смерть Сократа, больше не хотел возвращаться в Афины и сам не знал, что делать дальше. Поэтому он отправился в путешествие. Он побывал в Египте, посетил Кирену, а также, возможно, Вавилон и Ассирию. Позже он поехал в Южную Италию, где сблизился с пифагорейцами, от которых перенял любовь к чёткости мысли, стройности рассуждений и последовательному рассмотрению предмета со всех сторон.
Странствия Платона продолжались целых десять лет и завершились поездкой на Сицилию в 389–387 годах до н. э., где он не поладил с местным правителем и с большим трудом и не без приключений сумел вернуться обратно в Афины. Там Платон осмысливал опыт своих долгих и часто опасных путешествий. Да, он изучил множество дисциплин у разных народов, приобрёл богатые знания и нашёл новых друзей, став для них узнаваемой и близкой фигурой. Но приближало ли всё это его к истине, о которой говорил Сократ?
Платон обладал огромным багажом знаний об окружающем мире, и всё же сам мир по-прежнему представлялся ему непостоянным, переменчивым, чуждым и непредсказуемым. Не ощущалось никакой связи между неизменной и вечной истиной, которую он искал всем сердцем, и теми знаниями, что он успел накопить. Напротив, казалось, что за все эти годы он нисколько не приблизился к пониманию истины – цели, ради которой жил и странствовал.
Если бы существовал человек, действительно знающий истину, то слухи о нём непременно дошли хотя бы до самых образованных умов, с которыми Платон познакомился в своих странствиях. Но таких свидетельств не было.
И тогда Платон задумался: как быть дальше? Где искать истину? И возможно ли вообще достичь её человеческим разумом? Любые попытки возвести искусственные теории, объясняющие происходящее вокруг, даже если они выглядели логично, казались обречёнными на провал в силу своей искусственности.
И тут Платон вспомнил надпись на стене храма Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя». Эту фразу часто любил повторять Сократ своим ученикам. Согласно легенде, её оставил потомкам один из семи мудрецов Древней Греции.
Эти слова можно понимать как призыв «вспомнить всё». Об этом Платон рассказывает в диалоге «Менон», где зафиксирован любопытный разговор Сократа с его учеником. Речь зашла о добродетели. Менон считал, что знает, что это такое, и пытался разъяснить Сократу. Но вскоре выяснилось, что дать общее, универсальное определение добродетели, не дробя её на частные случаи, не так просто. Более того, подобного определения не знал никто – даже сам Сократ.
Менон удивился: если Сократ ищет то, чего не знает, то как он вообще поймёт, что нашёл именно это, если встретится с ним? А если Сократ всё же знает, что ищет, то зачем притворяется, будто не знает, и задаёт свои вопросы? Получалось, что вопрошание Сократа вовсе лишено смысла: «Ни тот, кто знает, не станет искать: ведь он уже знает, и ему нет нужды в поисках; ни тот, кто не знает: ведь он не знает, что именно надо искать».
Менон. Что же, по-твоему, мой довод не хорош, Сократ?
Сократ. Нет, не хорош.
Менон. А чем, можешь ты сказать?
Сократ. Могу, конечно: я ведь слышал и мужчин, и женщин, умудренных в божественных делах.
Менон. И что же они говорили?
Сократ. Говорили правду, на мой взгляд, и притом говорили прекрасно.
Менон. Но что же именно и кто говорил тебе?
Сократ. Говорили мне те из жрецов и жриц, которым не все равно, сумеют ли они или не сумеют дать ответ насчет того, чем они занимаются. О том же говорит и Пиндар, и многие другие божественные поэты. А говорят они вот что (смотри, правда ли это): они утверждают, что душа человека бессмертна, и, хотя она то перестает жить [на земле] – это и называют смертью, – то возрождается, но никогда не гибнет. Поэтому и следует прожить жизнь как можно более благочестиво:
Кто Персефоне пеню воздастЗа все, чем встарь он был отягчен,Души тех на девятый годК солнцу, горящему в вышине,Вновь она возвратит.Из них возрастут великие славой цариИ полные силы кипучей и мудрости вящей мужи, – Имя чистых героев им люди навек нарекут.А раз душа бессмертна, часто рождается и видела все и здесь, и в Аиде, то нет ничего такого, чего бы она не познала; поэтому ничего удивительного нет в том, что и насчет добродетели, и насчет всего прочего она способна вспомнить то, что прежде ей было известно. И раз все в природе друг другу родственно, а душа все познала, ничто не мешает тому, кто вспомнил что-нибудь одно, – люди называют это познанием – самому найти и все остальное, если только он будет мужествен и неутомим в поисках: ведь искать и познавать – это как раз и значит припоминать. Выходит, не стоит следовать твоему доводу, достойному завзятых спорщиков: он сделает всех нас ленивыми, он приятен для слуха людей изнеженных, а та речь заставит нас быть деятельными и пытливыми. И, веря в истинность этой речи, я хочу вместе с тобой поискать, что такое добродетель.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Так, Бертран Рассел в книге «История западной философии» приводит историю о том, как пифагорейцы доказали иррациональность



2
Представители разных культур в разной степени подвержены иллюзии Мюллера-Лайера. В 1960-е годы установлено, что народы, имеющие меньшее количество прямоугольных предметов (зданий) в зрительном окружении, менее восприимчивы к этой иллюзии. Тем не менее, оптических иллюзий, как таковых, существует великое множество и не существует ни одного человека или народа, невосприимчивого ни к одной из них.
3
Хотя софисты были побеждены Сократом и его учениками, они часто продолжали использовать в дискуссии грязные риторические приёмы, которые для внешней публики выглядели логично и убедительно, а на деле нарушали формальную логику. Таким образом они могли легко обмануть малоподготовленных людей, не привыкших «следить за руками». В целях защиты от подобной софистики выдающийся ученик Платона Аристотель сформулировал 3 закона формальной логики, которые договаривались использовать стороны прежде чем начать спор: закон тождества, закон непротиворечия и закон исключения третьего. Закон тождества устанавливал взаимно однозначное соответствие между словами и их определениями в некоем определённом контексте обсуждения. Нельзя было использовать те же слова в новом контексте с новыми значениями, не закончив предыдущей дискуссии, или изменять значения предварительно определённых слов по ходу дискуссии. Закон непротиворечия запрещал что-либо одновременно утверждать и отрицать (например, «У меня есть сосед-холостяк, у которого есть жена и 3 детей»). Закон исключения третьего гласит, что из двух противоречащих друг другу суждений лишь одно будет истинным, а второе – ложным. (Этот закон, в отличие от предыдущего закона непротиворечия, который касается как противоречивых, так и противоположных суждений, затрагивает только противоречивые суждения, но не применим к суждениям противоположным. Например, «кот белый – кот чёрный» – противоположное суждение, к которому можно подобрать третий вариант – «кот серый». В суждении «кот чёрный – кот не чёрный» не может быть третьего варианта: кот либо чёрный, либо нет.) Открыв законы формальной логики, Аристотель поставил окончательную точку в споре с софистами, и с тех пор слово «софист» приобрело немного негативный окрас, который сохранился вплоть до наших дней, означая что-то вроде философа-пустослова без чёткой и определённой системы ценностей.
4
«После – значит вследствие». Один из примеров такой ошибки – суждение: «После того, как петух с утра прокукарекал, поднялось солнце, следовательно, солнце поднялось именно потому, что петух прокукарекал».
5
«В начале был логос…»
6
«…и логос был с Богом, и логосом был Бог».
7
ἀλήθεια.
8
То есть платоновский мир идей, который, по учению Платона, составляет сущность всех вещей.