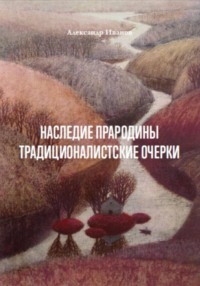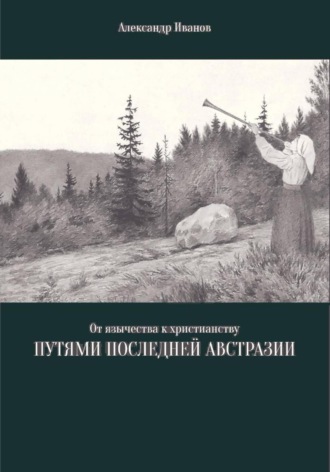
Полная версия
От язычества к христианству. Путями последней Австразии
Так вместе с забвением прото-языка и прото-письменности происходил и упадок Священной Традиции, которая все дальше удалялась от своего истока и превращалась в т.н. «язычество».
Глава 2. Русь до Христа
2.1. «Русская земля» и «русское язычество»
Прежде чем приступить к разговору о «русском язычестве» следует сделать несколько уточнений, поскольку сам этот термин не совсем корректен. Скорее речь пойдет о верованиях славянского этнического субстрата русского народа, но не его самого. Потому что до Владимира Святославича, которого прозвали «крестителем Руси», существовало государство Русь, но не существовало русского народа как такового: была северо- и восточногерманская Русь и объединенные ей в союзе с новгородскими словенами различные восточнославянские (поляне, древляне, дреговичи, полочане, северяне) и западнославянские (радимичи, вятичи) племена. Именно государство имеет в виду митрополит Илларион, когда говорит о предках Владимира и Русской земле, «что ведома во всех наслышанных о ней четырех концах земли».
Подробное рассмотрение вопроса о «скандинавской Руси» не входит в число задач нашего исследования; но чтобы не быть абсолютно голословными, и помятуя о том, что эта тема до сих пор является полем для дискуссий, приведем наиболее значимые аргументы, позволяющие связать происхождение древнерусского государства с германцами. Наиболее последовательный рассказ о его происхождении содержится в Иоакимовской летописи, изложенной В. Н. Татищевым: «[Новгородский князь] Гостомысл имел четыре сына и три дочери. Сыновья его или на войнах убиты, или в дому умерли, и не осталось ни единого его сына, а дочери выданы были соседним князьям в жены. И была Гостомыслу и людям о сем печаль тяжкая, пошел Гостомысл в Колмогард вопросить богов о наследии и, восшедши на высокое место, принес жертвы многие и вещунов одарил. Вещуны же отвечали ему, что боги обещают дать ему наследие от утробы женщины его. Но Гостомысл не поверил сему, ибо стар был и жены его не рождали, и потому послал в Зимеголы /к земгалам в Пруссию – А. И./ за вещунами вопросить, чтобы те решили, как следует наследовать ему от его потомков. Он же, веры во все это не имея, пребывал в печали. Однако спящему ему пополудни привиделся сон, как из чрева средней дочери его Умилы произрастает дерево великое плодовитое и покрывает весь град Великий, от плодов же его насыщаются люди всей земли. Восстав же от сна, призвал вещунов, да изложил им сон сей. Они же решили: «От сынов ее следует наследовать ему, и земля обогатиться с княжением его». И все радовались тому, что не будет наследовать сын старшей дочери, ибо негож был. Гостомысл же, предчувствуя конец жизни своей, созвал всех старейшин земли от славян, руси, чуди, веси, меров, кривичей и дряговичей, поведал им сновидение и послал избранных в варяги просить князя. И пришел после смерти Гостомысла Рюрик с двумя братья и их сородичами» [97].
В другом древнейшем хронографе русской истории – «Повести временных лет», в тех местах, где описываются деяния Олега Вещего, этническая «русь» прямо противопоставляется славянам. Например, при заключении мирного договора с греками в 911 году «Повесть» приписывает Олегу слова: «Сшейте для руси паруса из паволок, а славянам копринные». Да и среди послов «Олега, князя русского», мы не встречаем славянских имен: «Мы от рода русского, Карлы, Инегельд, Фарлоф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Рюар, Актеву, Труан, Лидульфост, Стемир…».
Для того чтобы прояснить происхождение и этническую принадлежность этого «рода русского», следует рассмотреть данные, которые содержат наиболее древние предания северогерманских племен. Согласно Снорри Стурлусону («Круг Земной», «Младшая Эдда»), правящие династии ведут свое начало от сыновей Одина, правителя Трои: от Веглега происходят правители саксов; от Бельдега – Бальдра вестфальские конунги; от Скъельда происходят конунги датчан – Скельдунги; от Семинга – ярлы и конунги Норвегии; от Ингви – правители Швеции Инглинги; от Сиги, который правил Страной Франков (современные Нидерланды) происходят Вольсунги. О последних следует рассказать подробнее, поскольку они имеют некоторое отношение к истории Руси.
В «Саге о Вольсунгах» рассказывается, как Рери (или Рерир), сын Сиги, не имея детей, обратился с мольбой к своим пращурам Одину и Фригг. Один услышал мольбу Рери и через свою валькирию, которая явилась конунгу в обличии ворона, передал ему яблоко. Рери съедает яблоко и входит к своей королеве. Во время ее беременности он уходит в поход, в котором погибает от рук врагов. Тем временем королева, которая не может разродиться, приказывает вырезать ребенка из своего чрева, после чего также умирает. Сын, который у нее родился, был наречен Вольсунгом. По достижении зрелости Волсунг берет в жены Хльод, ту самую валькирию, которая прилетала к его отцу; и строит палату, внутри которой из семян плода подаренного Одином, вырастает «родовой ствол» – яблоня. У Волсунга и Хльод рождаются дети, старших из которых называют Сигмунд и Сигню. Сигню против ее желания выдают замуж за конунга готов Сиггейра. В результате из-за нее начинается вражда между Волсунгами и людьми Сиггейра, в которой выживает только Сигмунд. Сын Сигмунда, которого звали Сигурд, прославлен как величайший герой в германском эпосе.
Дочь Сигурда и Гудрун (из рода Гьюкингов, королевство которых находилось «к югу от Рейна»), звалась Сванхильд. После смерти Сигурда, Гудрун вышла замуж за конунга Иоанакра, от которого она родила трех сыновей. О том, как это случилось, рассказывается в «Саге о Вольсунгах»: «Однажды Гудрун пошла к морю… Тогда подняли ее высокие волны и понесли по морю, и поплыла она с их помощью, пока не прибыла к замку Ионакра-конунга. Он был могучий король и многодружинный. Взял он за себя Гудрун. Дети их были: Хамди, Сорли и Эрп. Там воспитали и Сванхильд» (XLI). То есть дева Сванхильд была воспитана за морем, у некого конунга по имени Ионакр, происхождение которого в саге не уточняется. Затем за Сванхильд посватался конунг готов Иормунрек, но заподозрив своего сына Рандвера в измене со своей невестой, приказал убить их обоих. За свою сводную сестру отомстили братья Хамди и Сорли, тяжко ранив Иормунрека. В «Старшей Эдде» их имена передаются как Хамдир и Серли.
Согласно готскому историку Иордану (VI в.), причиной смерти конунга готов Германариха (имя которого передается в «Саге о Вольсунгах» как Иормунрек), явились представители племени Росоманов (Rosimanorum, Rosomorum): «Одну женщину из вышеназванного племени [росомонов], по имени Сунильду (Sunilda), за изменнический уход [от короля], ее мужа, король [Германарих], движимый гневом, приказал разорвать на части, привязав ее к диким коням и пустив их вскачь. Братья же ее, Сар (Sarus) и Амий (Ammius), мстя за смерть сестры, поразили его в бок мечом» (Getica, 129).
При сопоставлении данных «Гетики» Иордана и «Саги о Вольсунгах» выясняется, что «русь», к которой принадлежал Рюрик, была тем народом, который сохранял независимость от готов Германариха и которым в конце III–IV вв. по Р. Х. правил собственный конунг по имени Иоанакр. Этно-историческая значимость событий, касающаяся междинастической связи правящей династии Страны Франков и правителей народа россомонов, была настолько велика, что оказалась запечатленной в эпосе всех германских народов. Это послужило основной причиной для упоминания руссов как «происходящих от рода франков» (εκ γενους των φραγγων) в византийских хрониках середины X века[20][1]. Саксон Грамматик (XII в.) в сочинении “Gesta Danorum” говорит о Германарихе («Ярмерикусе») как о датском короле, который провел детство в плену у короля славян Исмара. Бежав из плена и воцарившись в Дании, он мстит славянам военными набегами. Затем он берет в жены Сванхильд «из рода геллеспонтийцев», но его советник – ливский царевич Бикко, оговаривает в измене сына Ярмерикуса по имени Бродерус, после чего он и Сванхильд подвергаются жестокой казни. Бикко не останавливается в своих интригах, и геллеспонтийцы по его научению идут мстить за Сванхильд. В этом им помогает волшебница Гудрун. В конце концов, Ярмерикусу отрубают руки и ноги, после чего он умирает в страшных мучениях. В этой истории для нас представляет большое значение два факта. Во-первых, в рассказе о мести россомонов правителю готов появляются ливы, славяне и Дания, т.е. действие оказывается приуроченным к региону юго-западного побережья Балтийского моря или, говоря иначе, – Пруссии (не в этническом, а в географическом понимании этого слова). Во-вторых, род Сванхильд, также как и в «Младшей Эдде», возводится к жителям Геллеспонта, то есть к троянцам. Причину появления и значение этой «троянской родословной» мы подробно рассмотрим ниже, пока же нас интересует дальнейшая историческая судьба этой ветви германских племен.
О германском происхождении Руси говорится и в «Бертинских анналах», где рассказывается о том, как в 839 году ко двору франкского короля Людовика Благочестивого явилось посольство византийского императора Феофила, среди которого были некоторые люди «от рода свеонов (шведов)», утверждавшие, что народ их называется Рос (Rhos), а их правитель носит имя Хакан (Chacanus). Вопреки распространенному мнению, Хакан – это не тюрско-хазарский титул («каган»), а именно имя личное, некогда широко распространенное среди северных германцев и засвидетельствованное в скандинавских сагах в форме Hakon.
Исследователями давно замечено, что само слово «Русь» построено так же как и названия северных финно-угорских племен, известных восточным славянам (Ливь, Чудь, Весь, Пермь и т.п.). Это послужило основанием для предположения, что первыми о Руси узнали финно-угры и славяне заимствовали у них название этого племени. Финны до сих пор называют шведов «Руотси». Поэтому сообщение Бертинских анналов приобретает для нас особо важное значение, тем более что кроме собственно Скандинавской Швеции, согласно Снорри Стурлусону, существовала Холодная или Великая Швеция (Svithjod), границы которой в изложении Саги об Инглингах, совпадают с Восточной Европой и которая, по всей видимости, как раз и означала государство Германариха (умер в 375 или в 376 гг.) из готской династии Амалов, которые в глубокой древности покинули Скандинавию и переселились на юго-западном побережье Балтийского моря, а затем переместились на юго-восток по направлению к северному Причерноморью.
Накануне Р. Х. эти «росы» должны были занимать области в междуречье Одера и Вислы. Почему это так, будет показано ниже, пока заметим, что после разгрома государства готов они сместились по направлению к востоку, и на всем протяжении раннего средневековья граничили с упомянутыми Иорданом «гольтескифами», «тиудами» и «весина-бронками»; под которыми, как было хорошо показано Б. А. Рыбаковым, следует понимать балтийское племя «голядь», а также финно-угорские «чудь», «весь» и «пермь», которые известны нам сегодня как эсты, вепсы и пермяки[21][1]. К моменту «призвания князей», если учесть данные Иоакимовской летописи, они населяли земли южной части Русской Лапландии и западных областей древней Перми. Об этом отрезке истории руссов мы можем узнать из Иоакимовской летописи: «Князь Славен, /…/ пошел к полуночи (на север – А. И.) и град Великий создал, во свое имя Славенск нарек. /…/ После устроения Великого града умер князь Славен, а после него властвовали сыновья его и внуки много сот лет. /…/ Буривой, имея тяжкую войну с варягами, неоднократно побеждал их и стал обладать всею Бярмиею /Пермью – А. И./ до Кумени /современная река Кемь – А. И./. Наконец при оной реке побежден был, всех своих воинов погубил, едва сам спасся, пошел во град Бярмы, что на острове стоял, крепко устроенный, где князи подвластные пребывали, и, там пребывая, умер. Варяги же, тотчас пришедшие, град Великий и прочие захватили и дань тяжелую возложили на славян, русь и чудь. Люди же, терпевшие тяготу великую от варяг, послали к Буривою, испросить у него сына Гостомысла, чтобы княжил в Великом граде. И когда Гостомысл принял власть, тотчас варягов что были каких избили, каких изгнали, и дань варягам отказался платить, и, пойдя на них, победили… и заключил с варягами мир, и стала тишина по всей земле». Чуть ниже рассказывается, как «пошел Гостомысл в Колмогард вопросить богов» – и это первое упоминание известного из скандинавских саг Хольмгарда («Островного города»), обычно отождествляющегося с Новгородом. Однако из других летописей известно, что Новгород возник невдалеке от древнего Славенска, да и никаких островов в окрестностях Новгорода не было и нет. Поэтому Колмогард Иоакимовской летописи следует скорее отождествлять с «градом Перми», «что на острове стоял, крепко устроенный» и «где пребывали подвластные князья». Судя по масштабам завоеваний Буривоя его держава простиралась довольно дальше к северу и востоку, чем можно было бы предполагать, не зная Иоакимовской летописи. К примеру, упомянутая в летописи северная граница его владений, проходящая по реке Кемь, проходит на 400 км, севернее Онежского озера. О том же, где проходила восточная граница, можно только догадываться[22][2]. Наиболее раннее свидетельство о «руссах» мы находим у Тацита (I в. по Р. Х.), который упоминает их под названием – ругии (rugii). Перечисляя германские племена и места их расселения по направлению от запада к востоку, перед свионами (предками современных шведов), которые живут «среди самого Океана», римский историк размещает интересующих нас ругиев: «…у самого Океана, [живут] руги (rugii)… отличительная особенность всех этих племен – круглые щиты, короткие мечи и покорность царям» («О происхождении германцев и местоположении Германии», 44). Еще в 959 г. в «Продолжении хроники Регинона Прюмского» мы находим упоминание ругов: «…Послы Елены, королевы ругов (rugi), крестившейся в Константинополе при императоре константинопольском Романе, явившись к королю, притворно, как выяснилось впоследствии, просили назначить их народу епископа и священников». Речь идет о посольстве св. равноапостольной княгини Ольги (в крещении Елены), к германскому королю Отгону I и неудавшейся миссии епископа Адальберта.
Если учитывать особенности восточногерманских языков, к которым наряду с готами, бургундами (выходцами с островов Готланд и Борнхольм в Балтийском море) относились и руги (выходцы с острова Рюген), то реконструкция их самоназвания на восточногерманском диалекте, которое стало известно Тациту от западногерманских информаторов, могла бы многое прояснить. Восточногерманские языки характеризуются: во-первых, сохранением в существительных множественного числа щелевых согласных между гласными, в отличие от других германских языков, в которых они переходят в звонкие; а во-вторых, сохранением прагерманского окончания *– z, в форме –s [35]. Т.о. латинизированное западногерманское слово rugii может быть представлено в форме *ruγos, по аналогии с готским dags – «день» и daγos – «дни»[23][1]. Если учесть возможность выпадения гортанного звука и слияние двух смежных гласных в один долгий (что например, происходило в древнеанглийском до VII в.), то мы получаем форму *ruos, откуда в финской среде возникло определение «руотси», а в славянской дало «русь». Упомянутое готский историком Иорданом название племени Росоманов (в латинской передаче Rosomanorum, Rosimanorum, Rosomorum), представляет собой искажение при транскрипции на латинский язык восточногерманского двухкорневого слова Ruos-(a)-mans, что буквально можно перевести как «русские люди» или в упрощенно-литературной форме перевода – просто «русские». В трудах современных авторов, в которых рассматривается этно-философская проблематика, можно встретить множество спекуляций на тему: почему в качестве самоназвания русского народа используется прилагательное, однако никто как будто не замечает того, что например современные англичане также называют себя English (множественная собирательная форма от Englishmen), а вовсе не Angles или Engles. Точно такое же происхождение имеет слово Français («французы»), которое первоначально было не существительным, а прилагательным со значением «франкские» и обозначало коренное кельтско-романское население Галлии управлямое франкскими королями (ср. например выражение les rois français – «франкские короли», или les tributaires français – «франкские подданные»).
Именно Ruosaman’ов спустя пятсот лет ассимилировали ильменские словене и днепровские поляне, создав т.о. этнический субстрат русского народа. Теперь становится понятным, что Рус, упоминаемый вместе со Славеном в генеологической легенде, зафиксированной не менее чем в ста списках русских хронографов – это не выдумка средневековых авторов, а персонаж восточногерманского предания, первоначально принадлежащий народу, который Иордан называет росомонами. Это тот самый «могущественный Рос», который благодаря Божественному озарению, некогда избавил от несчастья свой народ, вопреки предсказаниям языческих оракулов, о котором сообщают нам византийские хронисты. Русская (уже славянская) легенда только связала его с образом Словена из независимого предания славян о собственном прародителе.
В качестве иллюстрации представим текст, в котом эта легенда излагается в своем завершенном варианте: «…Словен и Рус с роды своими отлучишася от Ексинопонта /Черного моря – А. И./, и идоша от роду своего и от братия своея, и хождаху по странам вселенныя, яко острокрилаты орли прелетаху сквозе пустыня многи, идуще себе на вселение места благопотребна. И во многих местех почиваху, мечтующе, но нигде же тогда обретше вселения по сердцу своему. 14 лет пустыя страны обхождаху, дондеже дошедше езера некое-го велика, Моикса зовомаго, последи же от Словена Илмер проименовася во имя сестры их Илмеры. И тогда волхвование повеле им быти населником места оного. И старейший, Словен, с родом своим и со всеми, иже под рукою его, седе на реце, зовомей тогда Мутная, последи ж Волхов проименовася во имя старейшаго сына Словенова, Волхова зовома. /…/ Другий же брат Словенов Рус вселися на месте некоем разстояннем Словенска Великаго, яко стадий 50 у соленого студенца, и созда град между двема рекама, и нарече его во имя свое Руса, иж и доныне именуется Руса Старая. Реку же ту сущую едину прозва во имя жены своея Порусии, другую ж реку имянова во имя дщери своея Полиста. И инии градки многи Словен и Рус поставиша. И от того времени по имяном князей своих и градов их начахуся звати людие сии словяне и руси» [78].
Нелишним будет напомнить и о тесных контактах руссов с северными германцами. Для того чтобы понять их маштаб, достаточно вспомнить фигуру Олега Вещего, который практически единолично управлял Русской землей после смерти Рюрика. Прямое указание на происхождение Олега мы находим в Иоакимовской летописи: «Имел Рюрик несколько жен, но более всех любил Ефанду, дочерь князя урманского, и когда та родила сына Ингоря, ей обещанный при море град с Ижорою в вено дал /как дар жениха за невесте/…», – и ниже, – «Рюрик… был очень болен и начал изнемогать; видя же сына Ингоря весьма юным, доверил княжение и сына своего шурину своему Олегу, чистому варягу, князю урманскому». Характерно, что именно в Норвегии была записана «Сага об Одде Стреле», в которой рассказывается о нормандском викинге, которому пророчица и колдунья по имени Хейд делает предсказание о его смерти от коня, которое сбывается так же, как и в русской легенде, где Вещий Олег умирает от укуса змеи, выползшей из черепа его собственного коня [91]. В силу этнокультурной близости народов Скандинавии и восточногерманской Руси, и те и другие часто выступают под одним собирательным именем «варягов».
Уже сами исторические обстоятельства образования древнерусского народа, как слияния славянского и германского этнических субстратов, с участием балтских и финских племен севера, предполагало появление определенных черт менталитета, связанных с понятиями традиционного универсализма, поиска интегральной индоевропейской Священной Традиции.
Это также может послужить объяснением, той неоднозначности смысла, который вкладывался в понятие «Русская Земля» летописцами, и которая была точно подмечена, но так и не понята Б. А. Рыбаковым: «В русских источниках XI-XIII вв. наблюдается непонятная на первый взгляд, но чрезвычайно важная для нас двойственность в определении этого термина: во-первых, им обозначалось все восточное славянство в целом… Во-вторых, под собственно Русью в значительно более узком смысле слова понималось историческое ядро Киевской Руси: Среднее Поднепровье и лесостепное Левобережье Днепра примерно до Курска» [86]. Академика ставит в затруднение тот факт, что источники, в которых упоминается эта «внутренняя Русь», восходят к XII–XIII вв., когда ни о каком государственном единстве на этой территории не было и речи. Это заставляет его, в поисках предполагаемого единства, обращаться к археологическому материалу, который содержат культурные слои VI-VII вв. Но они на три – четыре столетия предшествуют исторической Киевской Руси и достоверно не могут быть определены даже как славянские. Между тем это противоречие может быть объяснено и без ссылок на археологические материалы, в том случае, если мы свяжем широкое понятие с государством Русь, а узкое с нарождающимся этническим единством, которое представляло собой скорее религиозную общность, состоящую из крещенных в Православие восточных германцев (исконной Руси) и восточных славян (которые конечно представляли собой большинство), что не влекло за собой изменения образа жизни в смысле хозяйственно-бытового уклада, а следовательно, и не нашло отражения в археологических памятниках.
Таким образом, собственно русский народ появляется впервые в Среднем Поднепровье как крещеная православная часть жителей древнерусского государства, единоверная с князем и его дружиной. Поэтому можно сказать, что русские не принимали христианства, а возникли в результате его принятия восточногерманской Русью и славянскими (в меньшей мере финно-угорскими) племенами. Интуитивным предчувствием правоты именно этой исторической модели объясняется стремление неоязычников и сочувствующих им авторов (например того же Рыбакова) любой ценой доказать происхождение русского народа от славянского племени «русов» или совсем уже мифических «росов». Смутно ощущая автохтомный характер русского народа на Восточно-Европейской равнине, и несомненно зная о его поздней славянской принадледности, но не находя этому прямых летописных подтверждений, они пытаются любой ценой доказать происхождение русского народа от «кабинетного» племени славяно-русов или совсем уже мифических «росов».
Собственно русский народ со славянскими корнями появляется в эпоху Владимира Святославича и его сына Ярослава Мудрого, поскольку в это время варяги начинают восприниматься уже как чужие. Русский эпос очень точно фиксирует временную точку отсчета и причину появления этнического самосознания русских людей: подавляющее большинство историй, изложенных в былинах, происходят во времена «киевского князя Владимира», «во Святой Руси».
Если вкратце представить события конца X века, определившие на тысячу лет духовную историю русского народа, то мы получим следущую, весьма странную картину: в 980 году Владимир обновил Киевское и Новгородское капище, возобновив самое ужасное человеческое жертвоприношение, подробный рассказ о котором датирован летописью 983 годом. Спустя всего три года он принимает посольства представителей разных религий, и судя по той заинтересованности, с которой князь их выслушал, речь шла уже не о реформе или укреплении язычества, а о сознательном поиске новой веры, которую он и принял спустя два года, после чего «повелел опрокинуть идолы – одних изрубить, а других сжечь».
Рассматривая шаги Владимира по укреплению языческой традиции, которые он предпринял в 980 году, необходимо принять во внимание то обстоятельство, что Владимир с раннего детства был наслышан о Православии и от своей бабки святой княгини Ольги и от варягов из княжеского окружения, многие из которых были христианами. Совершенно прав митрополит Иоанн, когда пишет: «Религиозная самобытность рассматривалась князьями как основа государственной независимости, как форма и средство сохранения политической самостоятельности. Причем языческие гонения на зарождавшееся христианство проявлялись… в попытках противопоставить цельному церковному мировоззрению столь же цельное антихристианское видение мира. /…/ Христианское откровение о Пресвятой Троице – Боге едином в существе и троичном в Лицах, язычество переиначивало по-своему, вводя в официальный пантеон Стрибога /…/ как «бога-отца», Даждьбога как «бога сына» небесного Сварога и Семаргла, крылатое божество, как «бога святого духа». Пресвятой Богородице противопоставлялась Макошь – богиня плодородия. И надо всем этим царил кровожадный Перун – бог грома и грозы, покровитель воинов и князей» [48]. Несмотря на то, что ассоциация конкретных персонажей «пантеона» с лицами Пресвятой Троицы, представленная у митрополита Иоанна, неверна (ее мы рассмотрим ниже), однако сама идея о том, что Владимир-язычник попытался противопоставить языческие культы христианству, проводя параллели между отдельными языческими божествами и лицами Пресвятой Троицы, заслуживает самого пристального внимания.