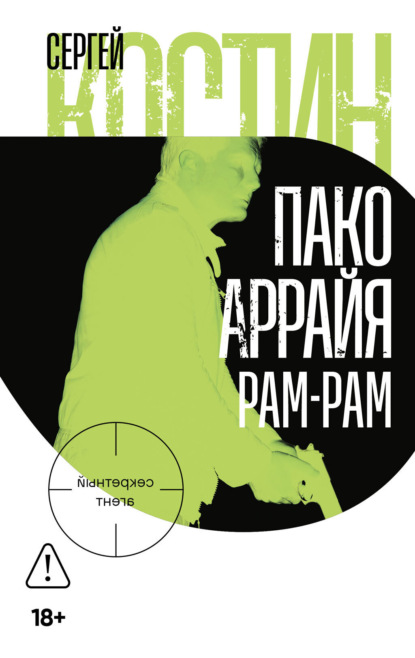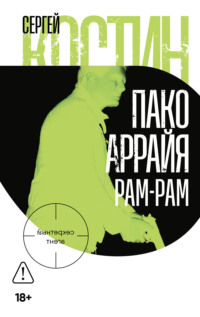Полная версия
Пако Аррайя. Афганская бессонница
Мы тоже сначала, как самолет, разогнались по полосе, а затем натужно, но все же бодренько оторвались от земли. Вертолет поднялся примерно на километр и уверенно пошел крейсерским курсом. Все заметно повеселели.
Илья, приложив голову к стенке, задремал, а я стал прислушиваться к Димычу. Он завел разговор с сидевшим напротив него на полу афганцем лет тридцати пяти в европейского покроя полупальто. Дело в том, что Димыч не переставал меня беспокоить.
Но сначала о моей легенде в съемочной группе. Звали меня, как я уже говорил, Паша. Так было проще: если бы я, забывшись, представился своим постоянным именем Пако, все можно было бы списать на оговорку. Но я вот уже как двадцать лет навсегда уехал из Союза, и в неизбежных долгих разговорах со своими помощниками я наверняка мог проколоться на незнании какой-то новой реалии. Поэтому я придумал такой вариант. Для всех остальных, особенно для афганцев, я был российским тележурналистом. А Илье и Димычу я под большим секретом сообщил, что уже давно эмигрировал в Германию и на самом деле репортажи, которые мы ехали снимать, предназначались для немецкого телеканала ЦДФ. Немцам договориться об интервью с Масудом было бы намного сложнее, чем журналисту союзной страны, поэтому я якобы и прибег к такой хитрости. В Германии я пока вроде бы обретался по виду на жительство, и паспорт у меня оставался российский – так что вряд ли афганцы что-то заподозрят. Я платил Илье с Димычем по западным расценкам, то есть раз в пять больше, чем российское телевидение, так что молчать было в их интересах. Кто платил? Я, я! В Конторе вопрос о том, как будет финансироваться эта операция, как-то и не вставал. Но, конечно, я мог себе это позволить.
Так вот, проблема с Димычем была в том, что он был натурой творческой и неутомимой. У него в связи с предстоящими съемками возникла задумка.
– Слушай, Паш! – убеждал он меня во время наших долгих посиделок в номере гостиницы «Таджикистан» среди батареи пивных бутылок. – Давай мы скажем афганцам, что я воевал против них в ту войну. Представляешь, мы тогда были врагами и, вполне возможно, даже стреляли друг в друга. А теперь у нас общая опасность и мы союзники.
Я только качал головой.
– Мы же давно признали, что зря полезли тогда в Афган! – не сдавался Димыч, и его узкие азиатские глаза становились совсем круглыми. – Меня же послали туда не спрашивая. Да, я стрелял в них, но и они стреляли в меня. На войне как на войне! Но теперь старые обиды можно забыть.
Я снова качал головой. Илья, который в наших разговорах участвовал в основном взглядами, с тревогой смотрел на меня. Ему такая задумка нравилась еще меньше, чем мне.
– Ну почему?
– Димыч, ну представь себе такую ситуацию. У кого-то в окружении Масуда наши убили всю семью, и этот человек немного тронулся в уме. Для него все русские одним миром мазаны. Он вскинет свой калашников и уложит нас всех одной очередью. Просто потому, что для него та война не закончится никогда.
– Ну ладно, ладно! Закончим сейчас этот разговор. Но вот увидишь, Паш, это хорошая мысль. Мы приедем, ты поймешь, что все нормально, и мы вернемся к этому разговору. Увидишь!
Вот почему я прислушивался к разговору Димыча с тем парнем, сидящим на полу. Похоже, зря – говорил в основном афганец, его звали Малéк. Он выучился на врача в Одессе, был женат на русской, у них было двое детей. Он только что отвез семью на Украину, к родителям жены, и теперь возвращался назад. В Талукане он был единственным хирургом.
– А что, талибы могут захватить Талукан? – присоединился к разговору я.
Малек замялся:
– Ну сейчас-то Рамадан… Ну это знаете…
Я знал:
– Пост.
– Ну да, можно и так сказать. Пока Рамадан, никто не стреляет. Так что для вас сейчас самое хорошее время. Но Рамадан заканчивается через несколько дней. И что будет дальше, никто не знает.
Малек говорил по-русски легко, хотя и с акцентом. Восточные люди, в своей массе вышедшие из торговцев, вообще очень способны к языкам. Я убеждался в этом в сотый раз.
– А почему же вы сами не остались в Одессе?
– У меня здесь, помимо работы, родители и дом. Мои оба брата погибли, так что теперь…
Он постеснялся договорить. Теперь семья была на нем.
Говорить, перекрикивая шум мотора, было трудно, и я, понимающе кивнув ему, выпрямился.
В этом вертолете уже был Афганистан. Я летел туда впервые, но это было понятно. Мужчины – кроме нашей группы, Малека, Фарука и двух марокканцев – были одеты в длинные шерстяные плащи, типа бурнусов, здесь их называли «чапаны». На голове у большинства были шерстяные же коричневые круглые береты, заканчивавшиеся внизу круглым ободком. Как я уже выяснил, он был образован закатанной вверх тонкой шерстью. Наверное, при желании ее можно было размотать и использовать как шарф, хотя тогда и лицо оказалось бы закрытым. Я уже спрашивал у Фарука, этот головной убор назывался «пакуль». Он был как бы частью военной формы в армии Масуда, но, как я скоро смог убедиться, пакуль был так же распространен, как и чалма.
В вертолете летели и две женщины. Сказать, были ли они молодые или старые, привлекательные или уродины, было невозможно. На них были не просто паранджи, а никабы. То есть их головы закрывали глухие капюшоны, прорезанные лишь узкой полоской вуали на уровне глаз. Самих глаз видно не было. А с плеч до земли женщины были окутаны балахоном из такой же желто-зеленой плотной ткани. Разумеется, представительницы лучшей части человечества сидели на не очень чистом, дребезжащем полу. Мы пытались было, пока рассаживались, уступить свои места на скамейке, но они отказались возмущенным щебетанием. Они сидели, выпрямив спины, – наверное, молились, чтобы уставшая стальная птица доставила их домой живыми и невредимыми.
Я выглянул в иллюминатор. Мы пролетали над однообразным грязно-бежевым предгорьем без каких-либо признаков жилья. Скальные породы сменялись каменистой пустыней, которую вдруг прорезал широкий поток, разбившийся на несколько переплетающихся рукавов. Я ткнул в бок Димыча.
– Пяндж, – пояснил он, едва бросив взгляд за окно.
– Вы что, бывали уже в Афганистане? – спросил Малек.
Я напрягся, но реакция у Димыча была неплохой.
– По карте посмотрел. Здесь другой реки нет. Ну заслуживающей такого названия. А что, не Пяндж?
– Пяндж.
И тут произошло следующее. Шум двигателя изменился, и вертолет начал немедленно терять высоту. Это, в сущности, нельзя было назвать откровенным падением, но и на маневр было не похоже. Земля быстро приближалась, и это было понятно даже тем, кто не сидел у иллюминатора.
Димыч выглянул в окно, и на его лице выступили скулы.
– Похоже, мы падаем, – стараясь говорить легкомысленно, произнес я.
Димыч молча посмотрел на меня. Афганцы, сидевшие на полу, теперь принялись оживленно переговариваться на дари.
Я посмотрел на цистерну с керосином. Над ней, как я заметил при посадке, болтался парашют в брезентовой сумке. Один на тридцать два человека.
– Он твой! – шутливо сказал я Димычу. Перекрикивавшийся со своими соотечественниками Малек не мог нас слышать. – Ты, наверно, один умеешь им пользоваться.
Димыч только усмехнулся:
– Его сложили лет пятнадцать назад, держу пари, наши же. Он уже никого не спасет.
Я выглянул в иллюминатор. Вертолет шел навстречу земле под острым углом. До столкновения оставалось несколько метров – уже были отчетливо видны метелки на высокой траве, покрывавшей пологий берег.
– Что, мы сейчас врежемся? – спросил Илья.
Он заметно побледнел, да и голос его звучал неуверенно.
– Похоже, – ответил ему Димыч. – Жалко, не договорим с Малеком, – интересный был разговор.
Странное дело: никому из нас не пришло в голову попрощаться – друг с другом или мысленно с близкими (мы потом обсудили это). Афганцы перекрикивались, но тоже не панически – такая перепалка вполне могла произойти и на базаре. А мы просто смотрели друг на друга и ждали смерти.
Вертолет покосился на правый бок. Пушистые белесые метелки теперь уже стелились под винтом. А сам винт должен был вот-вот чиркнуть землю.
И тут двигатель, уже и так ревевший в агонии, взял, вероятно, самую высокую ноту в своей жизни. Вертолет вздрогнул и так же бочком медленно вошел в вираж, оторвавший его от земли. Метелки выпрямились, потом стали меньше, потом превратились в кусок шелковой ткани, переливавшейся под ветром.
В меня стреляли не раз – я могу даже сказать, много раз. На моих глазах, совсем рядом со мной убивали и товарищей, и друзей, и моих самых близких. Но это все было по-другому. Человек стоял с тобой рядом, а в следующий миг он падал. Ты понимал, что на его месте мог быть ты, но ты не глядел в лицо своей смерти. Для этого нужно было бы, чтобы ты увидел пулю, которая вылетела из чьего-то ствола, чтобы ты видел, как она медленно летит в тебя, и в последний момент заметил, что она летит мимо. Все дело в скорости. А тогда рассмотреть приближение земли у меня время было.
И знаете что? Я вспомнил про молитву. Критический момент был позади, но тогда у меня не было никаких мыслей, только тупое ожидание финального столкновения. Не было и фильма из всех важных и неважных событий жизни, который, как утверждают, проносится в сознании перед самой смертью. Но что мешало нашему вертолету в предынфарктном состоянии грохнуться через какой-нибудь десяток километров? И я стал молиться.
Разумеется, я был воспитан атеистом. Все, что я знал о христианстве, было рассказано нам с моей первой женой Ритой во время подготовки в Лесной школе КГБ под Москвой. Потом, уже на Кубе, где перед заброской в Штаты мы два года осваивали местный испанский, мы прошли практические занятия. Анхель и Белинда, наши друзья, чьей задачей было превратить нас в настоящих кубинцев, не раз ходили с нами в церковь, где мы освоили все католические обряды. Изредка, по большим праздникам, мы ходим в церковь и в Нью-Йорке: Джессика – католичка, как, соответственно, и наш сын Бобби. Так вот, из всего этого запаса знаний в нужный момент не всплыло ничего. А вспомнилась мамина молитва, которой ее научили две православные московские бабушки. Молитва такая: «Владычица моя, Пресвятая Богородица, спаси и защити мя!» Я никогда в жизни не произносил ее – ни вслух, ни мысленно. У меня свой способ встречать сложные ситуации: я смотрю на себя со стороны и свысока, будто бы с невысокого потолка. Но в тот момент и это мне не пришло в голову. Вспомнилась молитва, что я услышал когда-то очень давно и не догадывался, что она все еще хранится у меня в памяти.
Знаете, что еще? Мне было неловко молить о собственном спасении. Я всегда ненавидел просить за себя. Может быть, в этом и было некое лицемерие – даже перед самим собой и даже перед лицом смерти, – но я представил себе мою маму (она по-прежнему живет в Москве, и с ней мы только что провели вместе целую неделю), представил себе Джессику, ее мать Пэгги, с которой мы очень дружны, моего двенадцатилетнего сына Бобби. Я представил себе их горе, когда они узнают о моей гибели, – а мы все еще были в воздухе, и двигатель вертолета с хрипами по-прежнему старался из последних сил. И я стал молиться. Слова были такие: «Владычица моя, Пресвятая Богородица, ради наших близких, спаси и защити нас всех! Если это возможно».
Глупо? Тем не менее я успел произнести эту молитву добрую сотню раз. В сущности, я не переставал повторять ее про себя до тех самых пор, пока наш вертолет не коснулся колесами пожухлой травы посреди превращенной в аэродром спортивной площадки в центре города Талукан.
3Куртка с термоизоляцией свою гарантию оправдывала. Я перестал дрожать и даже высунул кончик носа из-под одеяла. Но заснуть мне по-прежнему не удавалось. И дело было не в клокочущем храпе Ильи, отмерявшем тишину равными интервалами, но с вариациями в тональности и громкости. Ну да бог с ним, со сном! И мы отдохнем…
Теперь почему я попал в Афганистан. Незадолго до Рождества на меня вышел мой нью-йоркский связной Драган. Это персонаж, и с невероятной историей – я как-нибудь расскажу о нем. Но сейчас достаточно будет сказать, что через него Контора просила меня придумать предлог, чтобы отлучиться на пару недель. Причем связи со мной бо́льшую часть времени не будет. Я сказал Джессике и Элис, своей помощнице в агентстве, что еду в Туркменистан. У меня действительно есть идея организовать переход через пустыню Каракумы на верблюдах. Таким средневековым караваном, как во времена Марко Поло. Лучше всего это делать зимой – летом там, по рассказам, закопанное в песок яйцо через пару минут уже сварено вкрутую. Так что я вылетел в Стамбул. Но оттуда полетел не в Ашхабад, а – по другому паспорту – в Москву.
Я бываю в Москве – я уже давно не говорю «дома», мой дом в Нью-Йорке, почти напротив Центрального парка, – где-то раз в два-три года, иногда чаще. И, начиная с 1985 года, когда я впервые вернулся в Союз после засылки на Запад, каждый раз испытываю шок. Потому что каждый раз я приезжаю в другой город, вернее в другую страну.
Сначала, в 85-м, это был мир, который я за семь лет успел позабыть. Мир лозунгов типа «Слава КПСС!» или «Рабочее время – работе!» на каждой свободной стене, мир одинаковых кроличьих шапок и серых пальто, мир авосек с просвечивающими сквозь ячейки банками сгущенки и томатной пасты, мир черных «Волг», разрезающих поток «запорожцев» и «жигулей». Вспомнил тогда.
В следующий приезд, в 87-м, проезжая по улице Горького мимо Театра юного зрителя, я увидел афишу: ближайшей премьерой было «Собачье сердце» по Булгакову. Я читал эту книгу на кальке, в почти слепой самиздатовской распечатке, наверное, пятый экземпляр. А человек, читавший ее за мной, Витька Катуков, вылетел из-за нее из Военного института иностранных языков, где мы тогда учились. Он оставил распечатку в портфеле в аудитории, когда во время перерыва ходил в буфет. И кто-то неслучайный его портфель в отсутствие хозяина проинспектировал.
Потом была Москва начала 90-х, с мостовыми в выбоинах, как после бомбежки, с голыми витринами магазинов, очкастыми старшими научными сотрудниками, торгующими с рук пивом перед станциями метро, и пенсионерами, разложившими на продажу прямо на тротуаре ржавые болты и гайки, водопроводные краны и куски проводов.
В следующий раз я приехал в город, подвергшийся нашествию английского языка. Магазины по-прежнему были пусты, но стены и крыши уже были захвачены «пепси-колой», «адидасом» и «сименсом».
Была еще Москва тысяч киосков вдоль всех тротуаров, на каждом свободном пятачке, в которых продавали все, чему не могло найтись сбыта на Западе.
Потом киоски исчезли, улица Горького, ставшая снова Тверской, превратилась в подобие Медисон-авеню, Пиккадилли-стрит или Елисейских Полей. В книжных магазинах, булочных и кулинариях моего детства теперь продавали автомобили «Пежо», часы «Пьяже» и кристаллы Сваровски. Ночью подсветке фасадов мог бы позавидовать Рим, а по количеству «мерседесов», БМВ, «ауди» и «лексусов» с Москвой не сравниться ни Берлину, ни Вене.
В этот раз, две недели назад, когда встречавшая меня машина ехала из Шереметьево на конспиративную квартиру в переулках у Пречистенки, я, уже не ожидавший с последнего приезда увидеть что-либо новое, замер. Мы проезжали мима Дома на набережной, где когда-то жила кремлевская номенклатура. Крышу здания, некогда гордо увенчанную красным знаменем, теперь украшала огромная вращающаяся эмблема «Мерседеса». Это была финальная точка в соревновании двух систем.
В Конторе меня курирует человек, который кому-то уже знаком. Его кодовое имя – Эсквайр, но про себя я зову его Бородавочником. Не потому, что он похрюкивает и питается кореньями, вырывая их длинным носом, а из-за крупных родинок, сразу выделяющих его лицо из множества других. Узнав его получше, обнаруживаешь, что у Эсквайра есть и другие качества, мешающие ему потеряться в толпе современников. В частности, быстрый и острый ум, которым он пользуется по назначению в качестве холодного оружия скрытого ношения. Еще я подозреваю, что ему нравится производить на окружающих отталкивающее впечатление – во всяком случае, этим он владел в совершенстве. Однако, что касается наших отношений, упрекнуть мне его не в чем. Можно было бы даже предположить, что он относится ко мне хорошо – настолько, насколько можно сказать о бородавочнике, что он хорошо летает.
Эсквайр – меня из аэропорта сразу привезли к нему – хмыкнул, когда я выставил перед ним на стол литровую бутылку двенадцатилетнего «Чивас Ригал», купленную в самолете.
– Это ты правильно, – сказал он. – У нас есть что обмыть.
Он полез в ящик стола, достал плоскую прямоугольную коробочку и открыл ее. В ней рядом с наградной книжкой лежал серебряный крест с закругленными концами. Я знал, что это орден Мужества, меня наградили им за лондонскую операцию прошлого года. Я взял его в руку – это было странное чувство. Поясню на примере.
Пару лет назад я пытался организовать рай для дайверов на одном из маленьких независимых архипелагов Полинезии. Чтобы наладить контакт с местными властями, я привез туда два громадных ящика одноразовых шприцов, на дефицит которых мне намекнули в переписке. С моим проектом ничего не получалось, но перед отлетом местный министр здравоохранения и туризма надел мне на шею бусы из ракушек, переливавшихся всеми цветами радуги. Устроившись в салоне первого класса, я, естественно, сунул ожерелье в сумку, а дома повесил его на гвоздик в прихожей. Ракушки стали быстро собирать пыль, и Джессика убрала их в какую-то коробку. Так вот, из последующей переписки с представителями суверенного полинезийского государства стало ясно, что эти бусы – высший знак отличия, который местные граждане могли получить в конце деятельной и полной самоотречения жизни во благо отечества.
Это к вопросу о фетишах и символах. Ну правда! Кто бы мог вместе со мной гордиться этой наградой? Только мама. И где я мог бы не то чтобы носить, но даже хранить свой орден? Только у мамы. Хотя, признаюсь, всегда приятно, когда твои усилия, особенно связанные с риском, ценят.
Эсквайр уже разлил виски по стаканам – он помнил, что я пил виски чистым, а себе добавил минералки.
– Извини, что награду тебе вручают не в Кремле, – сказал он в качестве поздравления.
– Переживу.
Мы чокнулись и выпили. Большинство людей хорошее виски как-то смакуют, причмокивают. Бородавочник же просто налил глоток жидкости в соответствующую полость в своем теле и захлопнул губы. Они у него были такие тонкие и сжимались так плотно, что их, собственно, и видно-то не было. На лице моего начальника рот занимал не больше места, чем одна из глубоких морщин на его высоком лбу интеллектуала. Даже меньше – морщины все же длиннее.
– Ты, наверное, задаешься вопросом, зачем я тебя сдернул, да еще так надолго? – спросил Эсквайр.
Я внимательно посмотрел на него. Тот ли это момент, которого я давно жду, чтобы наконец выложить все начистоту? Но разве с Бородавочником можно поговорить по-человечески? Это же хитроумнейшая и сложнейшая шифровальная машина, где любая информация теряла первоначальный вид, многократно перекодировалась и возвращалась в виде, абсолютно недоступном для прочтения. Да и выражение лица моего куратора выдавало крайнее нежелание впускать в себя чужие проблемы и сомнения. Я уже говорил, у него как будто к верхней губе был навечно прилеплен кусочек говна, который он был обречен нюхать. Нет, этот блестящий знаток людей в качестве исповедника карьеры бы не сделал. Потому я молчал. Молчал и Бородавочник.
– Что скажешь? – первым не выдержал он.
Эсквайр уже понял, что я хочу поговорить не только о новом задании. Он не был уверен, хватит ли у меня духу. Но, если хватит, он от этого разговора уходить не собирался.
– Если честно, Виктор Михайлович, у меня к вам есть один вопрос, – спокойно, не возбуждаясь, медленно артикулируя каждое слово, сказал я.
Бородавочник развел руками с видом человека, готового слушать меня до утра, а когда кончится выпивка, он сам сгоняет в ближайший магазин за пивком. Но помогать мне провести неприятный разговор наводящими вопросами он не собирался.
Хорошо!
– Не знаю, надо ли мне напоминать вам свою биографию? – начал я. Эсквайр учтивым наклоном головы дал мне понять, что он с радостью выслушает все, что я сочту нужным ему напомнить. – Я работаю в Конторе больше двадцати лет. Из-за…
Я хотел сказать «из-за вас», но это было бы не только обидно, но и несправедливо.
– Из-за этого моего рода деятельности я потерял первую семью. Поверьте, мне плевать, что пару-тройку раз в году я рискую жизнью. Более того! Поскольку с каждым разом увеличивается не число друзей, а число врагов, возможно, опаснее всего даже не операции, когда я начеку, а как раз мои самые обычные дни.
Эсквайр кивнул. Его только чуть перекосило, когда я сказал «Контора» – они все говорили «Служба» или, по старинке, «Комитет». Но с остальным он был согласен.
– Но это был мой выбор, – продолжал я. – Хотя в сорок три уже понимаешь, что в девятнадцать лет с выбором легко ошибиться.
Я сделал паузу. Бородавочник давно понял, о чем я собирался говорить. Возможно, он ухватил это с самого начала. Не исключено даже, что он этого разговора ожидал уже несколько лет, много лет. Человек не только умный, но и великодушный спросил бы в этом месте: «Ты что, хочешь выйти из игры?» Или сказал бы: «Я понимаю, ты устал». Но это мог бы сделать тот, кто был готов меня отпустить. А Эсквайр такого намерения не обнаруживал. Но и я не собирался поджимать хвост.
– Так вот, вопрос, которым я все чаще задаюсь, – продолжил я, – зачем я это делаю? Все это! Я уже давно другой человек, не тот мальчишка, которого заманили края за далеким горизонтом и жизнь, полная приключений. Если честно, я никогда в жизни, уже тогда, не собирался сражаться за торжество коммунистических идей, за классовую солидарность трудящихся и прочую чушь. Да в это никто и не верил! Никто из моих друзей в Конторе, – я специально опять сказал в «Конторе», – и вы, Виктор Михайлович, не верили. Не пытайтесь меня убеждать! Для этого нужно было быть…
Я сгоряча чуть было не сказал «идиотом», однако Эсквайр таких резких слов точно не заслуживал. Я все-таки завелся. Чего меня понесло в коммунистическую идеологию? Никогда со мной такого не было, я про нее давным-давно забыл. Наверное, это виски. Я и в самолете себе не отказывал: от Нью-Йорка до Стамбула с пересадкой в Париже двенадцать часов лёта, потом еще три часа до Москвы. Выпил – поспал, выпил – поспал. Этот «Чивас Ригал» явно заявлял, что он – лишний. Но мало ли кто там что заявляет! Я посмотрел на свой стакан, сделал еще глоток и уселся поудобнее в кресле, надеясь, что теперь и Бородавочник что-нибудь скажет.
– Ты не упомянул самое главное, – наконец произнес он. – Мы здесь всегда работали – и сейчас работаем – на интересы вечной России. Каждому поколению русских выпадает обязанность сделать так, чтобы она, Россия, при его жизни не только не разрушилась, но и не растеряла свое могущество, свое влияние, свои территории. Коммунисты десятилетиями старались сохранить в целостности огромную сильную державу, созданную нашими предками. Делали это, как умели, как считали правильным. Но где-то просчитались.
Эсквайр оттолкнул свое офисное кресло начальника с высокой кожаной спинкой и, развернувшись на колесиках, встал из-за стола и принялся ходить взад-вперед, не прерывая свою речь. Он мастерски владел такой манерой разговора: как на совещании – без бумажки, но гладким текстом, как по выученному. Без какого-либо мэканья, повторов и потери мысли.
– Следующий период, живя за границей, ты проскочил. Нас всех после распада Союза пытались убедить, что Запад – наш лучший друг. Если и ты так думаешь, дальше вести этот разговор бессмысленно.
Эсквайр тоже завелся. Чуть-чуть. Или играл в это.
– Я так не думаю, – сказал я. И это была правда.
– При СССР это ведь был такой армрестлинг. Они жали на нас – мы жали на них. Перестань мы работать, они бы уже давно припечатали нас к столу.
– Что и произошло в итоге, вам так не кажется?
Но это был мой последний выпад. Бородавочник вдохнул полной ноздрей аромат того, что виртуально прилепилось к его верхней губе.
– Мы проиграли один подход. Проиграем второй – нас надолго вычеркнут из высшей лиги. Мне кажется, при новом руководстве страной этого не произойдет.
Бородавочник так и расхаживал вдоль стены, где когда-то, я помню, висел портрет Дзержинского, набранный из ценных пород деревьев. Какой-то умелец корпел долгими зимними вечерами. Потом на этом месте с цветной фотографии улыбался Ельцин с поднятым в ротфронтовском приветствии кулаком (в гражданских организациях он улыбался и приветливо махал рукой). Однако дух очередных перемен дошел и до Конторы: теперь в тонкой рамочке новый президент Путин шагал куда-то в рубашке, придерживая за петельку заброшенный на спину пиджак.
Я молчал. Конечно же, мой начальник был прав.
– Тебе приятно вести этот разговор? – раздраженно спросил Эсквайр. – Мне – нет. То, что ты думаешь, я знаю. То, что я могу тебе ответить, ты знаешь тоже. Стоит продолжать?