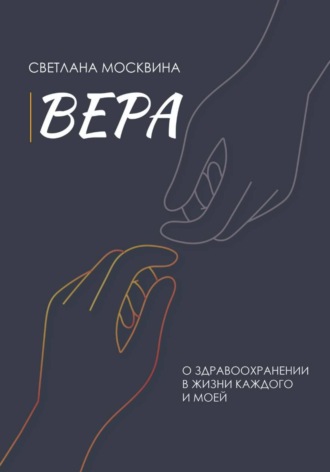
Полная версия
Вера

Светлана Москвина
Вера
Предисловие
Я работаю организатором здравоохранения с 2015 года. Еще на третьем курсе медицинской академии поняла, что именно в этом мое призвание. Я столкнулась с проблемами в здравоохранении еще ребенком на примере моих родителей и уже во взрослом возрасте на примере бабушки (об этом пишу в главе «Вера»). Я думаю, эти события во многом определили мой профессиональный выбор.
В этой книге две части. В первой рассматривается структура российского здравоохранения, его проблемы, предлагаются возможные пути решения. Также я делюсь опытом того, как при всех сложностях можно вводить рабочие позитивные изменения для людей. Книга была написана мной еще в 2022 году. С тех пор в сфере здравоохранения произошли изменения, тем не менее я решила не вносить коррективы в текст. Это дает читателю возможность самому оценить, стало ли медицинское обслуживание лучше.
Вторая часть – глубоко личная, в ней я рассказываю о трагедии своей семьи, о жизни бабушки, которая меня воспитала и всегда была для меня примером сильного и мудрого человека, о вопросах пожилого возраста, опять же, о том, с какими сложностями в системе здравоохранения ей пришлось столкнуться.
Эта книга будет интересна организаторам здравоохранения и врачам, которые интересуются вопросами организации здравоохранения и стремятся выработать системный взгляд на здравоохранение и сложности, с которыми они сталкиваются в повседневной работе. На данный момент это условия, в которых приходится работать и помогать пациентам, и только зная, как все устроено, возможно быть настоящим врачом.
Все в этом мире все делается людьми
И медицина тоже.
О книге
В этой книге рассматриваются отдельные направления работы российской медицины. Это взгляд изнутри организатора здравоохранения, который работал практикующим врачом, заместителем главного врача, главным врачом, заместителем директора департамента здравоохранения, руководителем частной клиники, имеющего за плечами опыт научной, волонтерской и политической работы. Это позволило составить картину модели российской медицины как паззл. Эта модель, несмотря на то что была некогда лучшей в мире (система здравоохранения, разработанная и реализованная в СССР Н.А. Семашко), сейчас требует значительных преобразований. Но это уже совсем другая история.
Об авторе
«ЖИЗНЬ – ЭТО ИГРА, ТОЛЬКО МЫ ИГРАЕМ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»
Это фраза моего младшего сына (да, есть аналогии, но поверьте, он их никогда не слышал), мотиватор для движения вперед.
Достаточно большую часть своей жизни я посвятила обучению различным медицинским специальностям: педиатрии, организации здравоохранения, ультразвуковой диагностике.
Всегда знала, что моя жизнь будет связана со здравоохранением и на третьем курсе медицинской академии окончательно определилась с выбором своего пути в медицине, а именно решила стать организатором здравоохранения.
После медицинского института училась в ординатуре по специальности «педиатрия», затем – в аспирантуре по организации здравоохранения.
В 2013 году защитила кандидатскую диссертацию, работала педиатром, врачом ультразвуковой диагностики и одновременно организатором здравоохранения.
В 2014 году закончила учебу по Президентской программе подготовки управленческих кадров (специальность «менеджмент»).
В 2015 году открыла частную клинику и получила грантовую поддержку от Департамента экономического развития Ивановской области. В 2016 году стала участником, а затем и финалистом кадрового проекта «Я МОГу» в Ивановской области. Тогда же решила попробовать свои силы кандидатом в депутаты Государственной Думы, поскольку стала победителем предварительного голосования от партии Единая Россия. На определенном этапе сняла свою кандидатуру, так как приняла предложение стать заместителем директора по материнству и детству Департамента здравоохранения Ивановской области.
В 2019 прошла обучение в Ивановском филиале РАНХиГС по программе «Управление в сфере здравоохранения». В 2022 году завершила обучение по программе Master of Public Administration в Институте Госслужбы в РАНХиГС с темой выпускной работы «Трансформация скорой медицинской помощи».
Три года я работала главным врачом районной больницы и все больше убеждалась, что система здравоохранения требует значительных перемен – как в финансировании, так и в целом в подходах к лечению и профилактике.
Изменения в российской медицине начались в 1990-х, когда страна перешла на страховую модель. Однако сформировалась «псевдостраховая модель»: отстающая в большинстве регионов по сравнению с иными странами стационарная помощь, первичная медицинская помощь, модернизация которой идет на протяжении нескольких лет и не заканчивается. Реализованы несколько национальных проектов, которые затрагивали в основном работу первичного звена. Частичный эффект мы наблюдаем в переориентировании медицинской помощи на «первичку», то есть на поликлиники. Тем не менее стены и технологии не самое важное в любой системе, самое важное – это кадры, люди, которые лечат, люди, которые организуют систему здравоохранения и создают условия для работы тех, кто лечит. Вопросы, связанные с тем, как функционирует система здравоохранения, возможно решить при наличии идейной, креативной, упорной и грамотной не только в своей медицинской отрасли, но и в других отраслях, таких как экономика, политика, социальная сфера, команде.
Право на ошибку
Такси задерживается, водитель отвечает, что опаздывает из-за пробки. Это значит, что он ошибся: неправильно выбрал маршрут и неправильно рассчитал время. Вы не воспринимаете эту ошибку всерьез, просто ждете или ругаетесь, ждете или ищете другое такси.
С врачебными ошибками намного сложнее (и что считать за врачебную ошибку?), поскольку если даже ты назначил соответствующее лечение, выполнил своевременно манипуляции и все правильно рассчитал, результат может быть совсем не таким, который был запланирован. Это связано с тем, что врачи лечат живой организм, и каждый уникален. Медицинская отрасль во многих странах подчиняется протоколам, все расписано по пунктам, и если медицинский работник их выполнил, то вопросов к нему нет. Но ни один протокол не гарантирует запланированного результата с вероятностью 100%. Как правило, даже самые надежные исследования (двойные слепые рандомизированные плацебо контролируемые) считаются успешными с долей вероятности 95%.
В России медицина в последние годы стремится к четкой структурности, но этот процесс затягивается, из-за чего до сих пор отсутствуют единые подходы к лечению. Если взять систему внутреннего контроля качества медицинской помощи, то каждая медицинская организация должна разрабатывать свой регламент.
Правительство РФ предложило поправки к основному закону о медицине – ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», которые включают введение понятия «протоколы лечения». Эти протоколы должны так же, как и внутренний контроль качества, разрабатываться в медицинской организации на основе соответствующих клинических рекомендаций, порядка и стандарта оказания медицинской помощи. Однако сегодня нет единых клинических рекомендаций по многим заболеваниям. Из всего вышеперечисленного следует, что попытки регламентировать медицину в России предпринимаются, но пока безуспешно, именно с этим связано достаточно частое расхождение в тактике ведения пациента у разных врачей, и даже экспертные заключения могут противоречить одно другому. При этом при цифровизации отрасли первым шагом должно быть использование информатизации для контроля качества лечения.
Представители Следственного комитета, изучив, как работает здравоохранение, делают выводы, что до тех пор, пока не будет единых норм, не будет и порядка. Получается, есть два государственных органа – Следственный комитет, где все регламентировано, и система здравоохранения, где нет единого стандарта. Врачи в результате оказываются между молотом и наковальней. Даже такая, на первый взгляд, мелочь, как отсутствие отраслевого кодекса, говорит сама за себя. Есть уголовный, административный, водный, земельный, семейный кодексы, а медицинского нет, все законы и нормативно-правовые акты разрознены, встречаются и противоречащие друг другу.
У медицинского работника по сравнению с большинством профессий высокий уровень ответственности при принятии решения, поскольку каждое действие связано со здоровьем человека. Неверные, некорректные, неточные действия могут привести не только к тяжкому вреду для здоровья, но в том числе и к смертельному исходу.
С другой стороны, при сложившемся кадровом дефиците мы имеем слишком большое дробление на различные специальности. Так, «взрослый» хирург не может лечить детей, так же, как и эндокринолог, а вот анестезиолог-реаниматолог – единая специальность для детей и для взрослых. И в период «ковида», который недавно переживала вся страна, мы еще раз убедились, что такая узкая направленность – это не всегда хорошо.
Какой же должна быть компенсация за такой высокий уровень ответственности врача? Как говорил Авиценна, врач должен быть одет в богатые одежды, носить на руке дорогой перстень, иметь лучшего коня, дабы думы о хлебе насущном не отвлекали врача от забот о пациенте. Немного по-другому говорят коллеги, которые работали в советской медицине: «Врач должен работать до обеда, а после обеда учиться и совершенствовать свои навыки».
В реальной жизни мы видим врача, который работает практически на две ставки, со множеством официальных и неофициальных подработок, чтобы действительно получать зарплату, которая обеспечит достойный уровень жизни. Если посмотреть ресурс по поиску работы hh.ru, то мы увидим, что в большинстве своем врачи в регионах требуются на заработную плату 40–50 тысяч рублей. Столько же получает водитель и немногим меньше кассир. На коллегии Минздрава по итогам работы ведомства за 2022 год заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова рассказала, что есть вакансии с зарплатой врачей меньше минимального размера оплаты труда.
Это факт, хороший врач не останется без куска хлеба. Но насколько реально в предлагаемом темпе принять правильное решение, не допустить ошибки, да еще и заниматься самообразованием?
Если говорить о врачебных ошибках, не учитывая (что часто делают) непредвиденные обстоятельства, как, например, индивидуальные анатомические особенности, которые не позволяют достигнуть запланированного результата, то в странах, где тщательно следят за данным показателем, происходит около 250 000 ежегодно.
Здесь хочется привести в пример модель Джеймса Ризона, которая на куске сыра объясняет риски и провалы в сложных системах. Упрощенно, смысл модели: все ошибаются. В каждом ломтике сыра есть дырка – это отдельная ошибка. В любой системе, как и в большом куске сыра, дырок много, они находятся на разных уровнях, обладают разной степенью потенциальной разрушительности и главное, не совпадают одна с другой. Катастрофа происходит, когда дырка есть на каждом уровне, то есть в каждом отдельном ломтике сыра, и они совпадают одна с другой.
Например, руководство больницы сократило зарплату врачам, но при этом не сократило рабочие часы (дырка в первом ломтике сыра). Врачу пришлось найти дополнительную работу, чтобы кормить семью. Врач пропадает днями и ночами на работе. В больницу поступает пациент. Уставший и раздраженный врач должен был назначить лекарство. Из-за стресса дома и усталости врач неправильно рассчитывает дозу лекарства (дырка во втором ломтике сыра, которая совпала с первой). Медсестра, увидев слишком большую дозу, засомневалась, но побоялась пойти и переспросить у врача (дырка в третьем ломтике сыра, которая совпала с предыдущей). Она хотела посмотреть в Интернете, но компьютер в отделении не работал, так как IT-специалист больницы его не починил (дырка в четвертом ломтике сыра). Медсестра подумала, что врач вряд ли ошибся, и все-таки ввела пациенту большую дозу лекарства, в результате человек умер.
Похожая ситуация попала во многие СМИ: пациентке ввели формалин. Кто ошибся? Где соответствующий контроль со стороны организации за действиями работников? И самый важный вопрос: кто должен нести ответственность? На сегодняшний день уголовной ответственности юридического лица в законе не предусмотрено, соответственно, для наказания нужен конкретный человек или группа людей.
Интересно, что большинство исков со стороны пациентов имеют скорее коммерческую подоплеку, нежели желание наказать. Пациенты не хотят, чтобы врачи оказались в тюрьме, они хотят материальной компенсации. Соответственно, отрасль коммерциализируется и количество исков увеличивается в геометрической прогрессии.
Врачу нечем защититься: нет регламентов, у врачебного сообщества нет должного веса для принятия решений, страхование ответственности практически отсутствует. Конечно, основная движущая сила медицинского сообщества – «Национальная медицинская па-лата» – делает попытки решить эти проблемы. Так, ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ст. 238 УК РФ («Ненадлежащее оказание услуг»), ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») планируют не применять ко врачам. Вместо них предлагаются «специальные» статьи: ст. 124.1 УК РФ предполагает уголовную ответственность за «ненадлежащее оказание медицинской помощи», ст. 124.2 УК РФ «нарушения оказания медицинской помощи».
Возможным решением проблемы между медицинским сообществом и следственными органами стало бы принятие такой нормы, которая определит рассмотрение врачебных дел так же, как и у судей – то есть профессиональным сообществом. Дополнительно необходимо закрепить возможность возбуждать уголовные дела только по заявлению потерпевшего.
Вопросов по выстраиванию взаимодействия больше, чем ответов, но если не говорить об этом и не предпринимать действий со стороны медицинского сообщества, то ждать положительных изменений в кадровой укомплектованности не приходится. Люди просто начинают бояться, бояться брать на себя ответственность.
Систематическая ошибка выжившего
Здравоохранение в России – это обязанность государства предоставлять необходимую медицинскую помощь. При этом оно не имеет должного финансового обеспечения, соответственно в полном объеме пациенты помощь не получают. Как следствие, мы постоянно видим сборы денег на лечение онкобольных детей и других пациентов. Не все могут открыто заявить, что их не устроило качество лечения, сроки оказания медицинской помощи или условия пребывания. Таким образом, здравоохранение ориентируется только на тех, кто умеет озвучивать, в том числе формализовать жалобы (проще говоря, на жалобщиков). Эта позиция в корне не верна, поскольку не позволяет системно подходить к решению проблем. Получается «латание дыр» по следам тех, кто громче всех кричит. А кричать, обвинять, критиковать в наше время просто: достаточно разместить информацию в соцсетях – и вот уже все видят очередного бездушного врача-хама или медсестру-хабалку. Именно так в России формируется мнение о системе здравоохранения, именно на основе жалоб и критики принимаются, к сожалению, управленческие решения.
Как правило, такой подход называют систематической ошибкой выжившего. Это термин в статистике, который описывает последствия неверной выборки информации для проведения исследований, когда в исследование включены только «выжившие», «выигравшие», а опыт «проигравших» не учитывается. То есть мнение, предложения и идеи пациентов, медицинского сообщества, которые не кричат, не учитывается.
Например, истории о том, как врачи прогнозировали рождение ребенка-инвалида и предлагали аборт, а в итоге родился здоровый ребенок, получают широкую огласку. Те случаи, когда прогнозировали рождение ребенка-инвалида и в итоге родился ребенок-инвалид, редко становятся известны. Еще банальный пример: скорая помощь не приехала в установленный срок, и все считают, что пациент умер из-за длительного ожидания оказания медицинской помощи, а о том, что он курил, злоупотреблял алкоголем, не обследовался и не лечился должным образом, не упоминается. В результате в глазах обывателя пациент умер, потому что скорая долго ехала. Далее начинается анализ на разных уровнях: почему скорая долго ехала и что с этим делать. Вывод очевиден: машины старые, их не хватает, надо закупить новые. А если разбираться в причинах смерти пациента, выводы были бы совершенно другие.
Именно поэтому медицинские проблемы должны рассматриваться профессиональным сообществом, поскольку оно сможет анализировать данные не на основании позиции «выжившего», а делать глубокий анализ с учетом погибших и формировать системные решения.
Аналогичный подход целесообразно использовать при разборе врачебных ошибок, чтобы целью было не наказать и посадить конкретного врача, а разобраться в ситуации и тем самым спасти жизни другим пациентам. Если же принимать системные решения и делать выводы на основании жалоб, то медицина так и останется «в заплатках».
Почему медики боятся СМИ
«Пациентка в гипсе ползла на третий этаж», «Мужчина умер в приемной, так и не дождавшись врачей». СМИ гонятся за скандальными заголовками, а вот официальные разъяснения из больницы запрашивают не всегда. Иногда бывает наоборот: запрос есть, а ответа не получают, поскольку больницы боятся дать лишнюю информацию в СМИ. Чтобы избежать таких ситуаций, в лечебном учреждении должен быть сотрудник, который умеет правильно выстроить коммуникацию с журналистами, который сможет грамотно, своевременно и обоснованно донести позицию медицинского учреждения не только до СМИ, но и до читателей. Поэтому клиники организуют работу со СМИ через пресс-службу, вводят должность пресс-секретаря.
Однажды в центре скандала оказалась Боткинская больница. Репортеры сняли на видео так называемый могильник, где скопились горы мешков с небезопасными медицинскими отходами. Главный врач больницы назвал историю «мусорным шантажом». Чтобы опровергнуть обвинения в незаконной работе, главному врачу пришлось давать интервью и рассказывать о конфликте с компанией, которая занимается вывозом отходов.
Медицинские организации в России, особенно бюджетные, все еще остаются достаточно закрытыми. При этом у общества есть потребность в медицинских новостях, как в положительных, так и в отрицательных, и журналисты стараются удовлетворить эту потребность. Однако в сознании большинства врачей рассказ об успешной операции, внедрении нового вида лечения, спасенной жизни воспринимается либо как хвастовство, либо как повседневная работа. И как следствие мы получаем в основном негативную информацию о медицинской сфере, замалчивая успехи и достижения.
Бич XXI века – это отзывы. Сейчас все большее распространение получают сайты, где можно оставить отзыв о медицинской организации или о враче, и специальные группы в соцсетях, которые отзывы собирают. Пациенты активно пользуются этими ресурсами, составляют рейтинги врачей, обмениваются мнениями о специалистах, которых стоит выбрать для консультации. Среди отзывов встречаются как негативные, так и положительные, однако некоторые из них не соответствуют действительности. Так, в 2017 году суд обязал выплатить врачу компенсацию за публикацию на сайте негативного отзыва пациента на его работу. Годом ранее суд взыскал денежные средства с пациентки в пользу врача за то, что она разместила на своей странице в соцсетях негативный пост о работе врача, который также не соответствовал действительности.
Для выстраивания работы в информационном пространстве медицинскому сообществу надо быть открытым, учиться корректно доносить свои слова до журналистов и пациентов, ведь именно недостаток информации рождает слухи, негативные отзывы и сенсации. В то же время не надо забывать о защите прав медицинских работников, тогда и СМИ, и сами пациенты будут задумываться, прежде чем размещать некорректную информацию.
Кадры решают все
«Дефицит медицинских кадров» и «низкие зарплаты врачей» – темы, которые обсуждаются в медицинских кругах уже много лет. Периодически проходят круглые столы в различных ведомствах, итог у них один: «все участники совещания согласились, что устранить дефицит медицинских работников можно, только создав для них благо-приятные условия работы, в первую очередь обеспечив жильем, повысив зарплаты, предоставив соцпакет и снизив чрезмерную нагрузку, а для этого необходимы дополни-тельные финансовые ресурсы». В заголовках СМИ мы видим следующую новость: «Средняя заработная плата врачей выросла почти на 50%». И вроде бы все хорошо: просили повысить – повысили. Однако если посмотреть на инфляцию, то она растет быстрее заработной платы. Средняя зарплата врачей в России составляет около 53 тысяч рублей (без учета «ковидных» выплат), по данным опроса самих врачей. Конечно, возможно, что выборка опрошенных нерепрезентативна, ведь хочется верить, что врачи действительно стали получать достойную зарплату (и «ковидные» выплаты этому способствовали). Для сравнения, средняя зарплата врачей в Германии составляет 387 тысяч рублей в месяц, в Великобритании – 263 тысячи рублей в месяц, в США – 1,4 млн рублей в месяц. Конечно, из этой суммы вычитаются налоги, однако даже с учетом вычета остаются приличные деньги. Если сравнить заработные платы врача с другими профессиями в нашей стране, мы увидим, что последние намного выше, притом, что уровень ответственности за принятие решений намного ниже. Не секрет, что большинство людей живут по принципу «мы не ищем сложных путей», и это абсолютно правильный жизненный принцип. Поэтому молодежь изначально выбирает другие профессии или даже закончив медицинский вуз и посмотрев на профессию изнутри, оценив свои усилия и финансовый результат, выбирает не работать по специальности.
В некоторых странах отбор происходит иным путем, по принципу конкуренции: не всех закончивших медицинский вуз допускают до профессии, а только лучших, да и поступить в медвуз, а затем в резидентуру достаточно сложно. Фактически в нашем здравоохранении остаются те, кто не может жить по-другому, для кого эта профессия – действительно призвание и смысл жизни. Однако в массе любовь к профессии быстро заканчивается выгоранием, особенно с учетом низкой зарплаты, большой загруженности и отсутствия возможности к совершенствованию навыков по разным причинам. Если вспомнить пирамиду потребностей Маслоу, то на первом месте стоят физиологические потребности, в данном случае – это зарплата, которая позволит покупать еду, накопить на жилье и т.д. Если эта потребность не удовлетворена, ни о каком повышении квалификации и о самореализации речи не идет. У человека будет один инстинкт – заработать, а это высокая загруженность и отсутствие времени на самообучение. Происходит неизбежное: врач работает практически на две ставки, у него нет времени на обучение, он не повышает свою квалификацию, не получает современных знаний и навыков, соответственно, не может увеличить свою цену на рынке труда. Именно так наше здравоохранение получает недостаточно квалифицированные кадры.
Преодолеть недостаток медицинских работников пробуют сокращением сроков обучения (отмена интернатуры), обязанностью отработать в первичном звене несколько лет. Однако многие эксперты отмечают, что нужно отказываться от специалистов с уровнем подготовки, недостаточным для допуска к клинической работе.
Необходим комплексный подход, который позволит не просто укомплектовать здравоохранение кадрами, а квалифицированными кадрами, для чего требуется создание конкуренции в медицинской среде и изменение подходов к медицинскому образованию. Как правило, люди конкурируют за что-то изначально для удовлетворения физиологической потребности, то есть для получения достойной заработной платы. Необходимо определить минимальный гарантированный порог, который будет у каждого, кто получит достойное звание врача, и именно он должен быть не менее 200% от средней заработной платы в регионе. Именно тогда в отрасли появятся зачатки конкуренции за право быть врачом. А следующий шаг – не просто за право быть врачом, а быть высококвалифицированным врачом, поскольку после удовлетворения финансовой потребности человек перейдет на следующую ступень пирамиды потребностей.
Еще в советские времена была внедрена достаточно хорошая система оценки квалификации – вторая, первая, высшая категории, но на текущем этапе присвоение квалификаций стало формальностью. Многие врачи не стремятся присвоить квалификацию, поскольку это копейки в прибавке к зарплате, да и никакого смысла или бонусов нет. В некоторых регионах реализуют свои проекты, например, программа «Московский врач», однако система оценки должна быть единой по всей стране.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».

