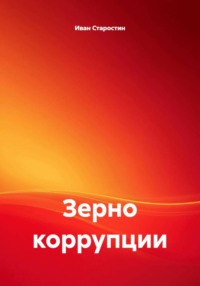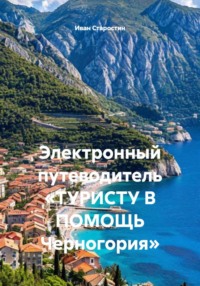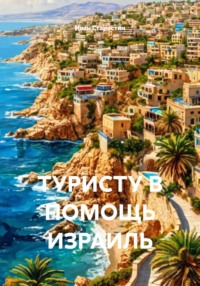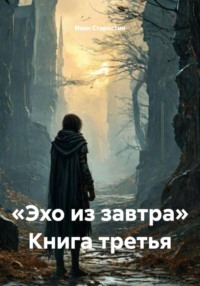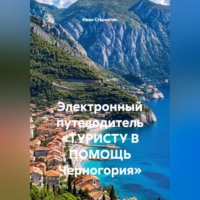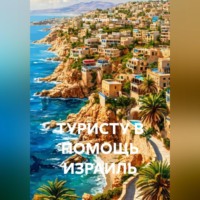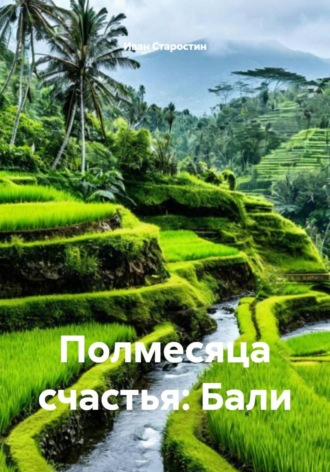
Полная версия
Полмесяца счастья: Бали

Полмесяца счастья: Бали
Глава 1. Тегалаланг: рисовые террасы, где вода не спешит – а учит ждать
Эта глава – не «фотосессия на фоне зелёных ступеней».
Это – урок доверия к изгибу, потому что на Бали они понимают:
«Мы не строим прямые дороги.
Мы учимся – идти по спирали,
потому что даже земля знает:
путь вверх – всегда через обход».

Документальная основа: в 2025 году в Тегалаланге действительно действует инициатива «Subak Tanpa Plastik» («Субак без пластика») – возрождение древней системы орошения subak, построенной по принципу «Tri Hita Karana» (гармония человека, природы и духа).
Особенности:
– вода идёт не по трубам, а по каменным и бамбуковым желобам, вырезанным вручную;
– никакого пластика в каналах – только бамбуковые перегородки и каменные ловушки для ила;
– право на воду – не по «кто первый», а по ритму: каждая терраса получает воду ровно 23 минуты, затем – следующая;
– и – «Урок у края»: фермеры приглашают не «на экскурсию», а на 2 часа молчаливого присутствия – чтобы гость почувствовал, как вода входит в рис, а не «поливает» его.
И да – у входа в поле действительно стоит каменная плита, а на ней – углубление, где каждый оставляет один предмет:
– камень с выемкой от сердца,
– щепотку риса,
– и – лист бамбука с выжженной фразой:
«Air tidak terburu-buru. Ia belajar menunggu.»
«Вода не спешит. Она учится ждать».
1. Тегалаланг: рисовые террасы, где вода не спешит – а учит ждать
Утро. Воздух – не «влажный». Живой: жасмин, влажная земля, и – аромат молодого риса, смешанный с запахом нагретого камня.
Их встречает не гид.
Камень.
Лежит у входа в поле – не гранит.
Балийский андезит, с прожилками кварца, как жила света.
На нём – одна надпись, вырезанная не резцом, а пальцем:
**«Ты не пришёл посмотреть.
Ты *пришёл – чтобы земля тебя узнала»**.
Дорога – 20 минут пешком.
Не по асфальту.
По тропе из плоских камней, уложенных в спираль – не для красоты.
Для замедления.
У входа – не касса.
Круг из камней, как везде: у ледника, у арыка, у Демерджи.
В центре – каменная плита, с выемкой – не от ладони.
От ступни.
Из тени выходит мужчина.
Не в рубашке.
В простом х/б саронге, с заплатой из переработанной рыболовной сети (цвет – не белый. Серебристо-зелёный, как рис в тени).
Волосы – седые, коротко стриженные.
Глаза – не «добрые».
Тёплые.
Как вода в источнике Тирта Эмпул.
– *«Ньоман», – говорит он. – *«Не имя.
Напоминание:
Ньоман – „второй сын“,
но по-балийски – *„тот, кто учится у воды“».
Я – не фермер.
Я – слушатель потока».
Он не здоровается.
Он кладёт ладонь на ступню Артёма.
– «Сегодня – не день для глаз.
Сегодня – день для ступней».
Он ведёт их вглубь террас.
Не по дорожке.
Между террасами.
Там, где – вода.
Субак – не «канал».
Организм.
Ширина – 30 см.
Глубина – 10 см.
Дно – не бетон.
Уплотнённая глина, смешанная с крошкой андезита – чтобы «не скользила, но не трескалась».
Борта – не прямые.
Изогнутые, как спина доверяющей лозы в Крыму.
Уклон – 0.8° – ровно столько, чтобы вода не спешила, но и не останавливалась.
В 8:07 – начинается поток.
Не «работа».
Диалог.
Ньоман опускается на корточки.
Не у самого subak.
У каменного перепуска – «pangi», где вода меняет направление.
Он не смотрит в воду.
Он слушает.
– «Слышишь?» – шепчет он.
Артём прислушивается.
Сначала – ничего.
Потом —
звуки:
– тихий шелест – вода стекает с листьев риса;
– лёгкое шипение – пузырьки воздуха в глине;
– и – пульс – не в ушах.
В земле.
Как jökuldráttur в Исландии.
Как пульс глины у Лейлы.
Как дыхание лозы у Дмитрия.
– *«Это – Tirta Ngebah – „Дыхание Воды“, – говорит Ньоман. – Вода не течёт. Она окутывает».
Он берёт черпак.
Не металлический.
Из переработанного бамбука, обожжённого в печи.
Опускает в subak.
Поднимает.
Вода – не прозрачная.
Зеленоватая, с вкраплением кварца и рисовой пыльцы.
– «Это – Devi Tirta – „Вода-Богиня“.
Не из дождя.
Из ночи, которую земля вспомнила».
Подаёт Артёму.
– «Пей.
Не как влагу.
Как учителя».
Артём пьёт.
Вода – не холодная.
Тёплая.
С привкусом глины, кварца и чего-то древнего – как будто в ней растворена память гор.
Он закрывает глаза.
И – чувствует:
не «я пью воду».
Я – часть цикла.
Роса – камень – subak – pangi – мы.
Всё – одно дыхание.
Мария пьёт второй глоток.
И – останавливается.
Не на вкусе.
На пульсе.
Она кладёт ладонь на pangi.
И – чувствует:
не «канал полон».
Земля – жива.
Ньоман улыбается – не губами.
Глазами.
– *«Вы думали, что ищете воду.
А оказались – теми, кого вода искала».
Он берёт кусок андезита (тот же, что у входа).
Макает в Devi Tirta.
И – пишет на каменной плите:
**«Вода не борется с камнем.
Она окутывает.
Потому что знает:
даже твёрдое – может стать дорогой».*
Потом – отдаёт андезит Артёму.
– «Теперь – ваша очередь.
Напишите не что вы ждёте.
А – что вы уже получили – в тишине».
Артём берёт камень.
Касается воды.
И – пишет:
– волну (Лан Ха),
– верблюжий след (Синай),
– 14 точек (Рёандзи),
– пульсирующую линию (Стрейкюр),
– горшочек без дна (Марракеш),
– гроздь винограда (Соколиная скала),
– каплю росы (арык),
– трещину (Дива),
– туман (Чатыр-Даг),
– корень (Малый Маяк),
– арку (Коктебель),
– смех (Орлиное),
– нить (Ласпи),
– выдох (Демерджи),
– и – пустоту в центре.
Мария добавляет – не линию.
Три точки.
Как три чёрные крупинки.
Как три саженца.
Как три жизни, вплетённые в одну.
Ньоман смотрит.
– «Хорошо.
Теперь – оставьте плиту здесь.
Пусть вода прочитает».
Он кладёт плиту у pangi.
Не в тень.
В поток утреннего света.
И – уходит.
Возвращается с двумя предметами:
– глиняную чашку без глазури – с трещиной, залитой серебром (как у Рустема в Судаке),
– камень – тот самый, с надписью: «Ты пришёл – и земля тебя узнала».
Теперь на нём – новая надпись, вырезанная не углём.
Водой:
**«Ты не пришёл учиться.
Ты пришёл – и вода тебя узнала».*
– *«Заберите.
Не как сувенир.
Как напоминание:
когда забудешь – кто ты,
возьми щепотку глины.
Положи на язык.
И вспомни:
ты – из глины, воды, магнитного зерна и тихого дыхания, идущего в такт твоему».
Утро. Солнце – не за горизонтом.
Над Тегалалангом.
Но в груди – уже не возврат.
Ожидание.
То, что рождается не от нетерпения —
а от готовности быть – в изгибе, даже когда всё требует прямой.
Глава 2. Убудский лес обезьян (Мандала Сака): где „зоопарк“ – нет, а диалог с дикой жизнью – да
Эта глава – не «фото с макакой на плече за 10 долларов».
Это – встреча с границей доверия, потому что на Бали они понимают:
«Мы не приручаем дикое.
Мы учимся – не бояться быть уязвимым перед ним,
потому что уважение – не в контроле,
а в готовности быть увиденным».
Документальная основа: официальное название территории – «Мандала Сака» (Mandala Saka), что означает «Священный Круг». Это не парк развлечений. Это – охраняемая зона духовной и экологической важности, прилегающая к трём храмам: Пура Далем Агунг, Пура Махадеви и Пура Будха.
Правила, выгравированные на камне у входа на балийском и английском:
Никаких бананов, орехов или еды в руках.
«Рука с едой – не приглашение. Это – испытание».
Сумки – только на груди, застёгнуты.
*«Не от жадности. От уважения: макака не ворует. Она проверяет: ты – здесь по-настоящему?»
Взгляд – не сверху. В уровень глаз.
«Кто смотрит сверху – не видит душу».
Если подошла – не отстраняйся. Подожди.
«Она не просит. Она – встречает».
И да – у самого входа действительно стоит каменная чаша («Bakul Suci» – «Священная Корзина»), где каждый оставляет:
– цветочную корзинку «кананг сари»,
– щепотку риса,
– и – одно слово, написанное водой на листе бамбука.
Сегодняшнее слово – не «спасибо».
«Ngelungsur» – «Возвращайся».
2. Убудский лес обезьян (Мандала Сака): где «зоопарк» – нет, а диалог с дикой жизнью – да
Утро. Воздух – не «влажный». Сладкий: жасмин, гибискус, и – аромат влажного мха, как будто лес помнит все прикосновения.
Ньоман не ведёт их «на экскурсию».
Он останавливается у круга из камней у входа.
– «Дальше – не моя земля.
Это – их.
Подойдите сами.
Сердцем вперёд».
Дорога – 5 минут пешком.
По тропе из корней баньяна, усыпанной лепестками франжипани.
Тень – не «прохладная».
Живая.
Как будто дышит.
У входа – не касса.
Каменная чаша – «Bakul Suci», с выемкой – не от ладони.
От встречи.
Из тени выходит мужчина.
Не в форме.
В простом х/б саронге, с заплатой из переработанной рыболовной сети (цвет – не белый. Серебристо-зелёный).
Волосы – седые, коротко стриженные.
Глаза – не «строгие».
Спокойные.
Как вода в источнике Тирта Эмпул.
– *«Агунг», – говорит он. – *«Не имя.
Напоминание:
Агунг – „великий“,
но по-балийски – *„тот, кто слушает молчание“».
Я – не смотритель.
Я – хранитель границы».
Он не здоровается.
Он кладёт ладонь на грудь Артёма.
Там, где – мы.
– «Здесь. Не здесь.
Ты уже слышишь их шаги».
Он ведёт их вглубь леса.
Не по тропе.
Между тропами.
Там, где – тишина.
Мандала Сака – не «зоопарк».
Священный круг.
Площадь – 12,5 га.
Деревья – не для тени.
Для связи:
– баньян – «корни-небеса»,
– тамаринд – «время-хранитель»,
– франжипани – «душа-цветок».
И – жители.
Не «обезьяны».
Макаки-крабоеды (Macaca fascicularis).
185 особей.
Каждая – с именем:
– Деви («богиня»),
– Сидхи («достижение»),
– Байу («ветер»),
– и – Тиру («истина»), самка, которой 24 года – старейшая в лесу.
Они не «прыгают».
Они двигаются.
Медленно.
Осознанно.
Как танцоры без музыки.
Агунг останавливается у корней баньяна.
– «Сядьте.
Не как гости.
Как участники».
Артём и Мария опускаются.
Не на камень.
На мох.
Мягкий.
Тёплый.
Как ладонь.
Проходит 17 минут.
Тишина.
Но в ней – звуки:
– треск листа под лапой,
– шелест ветра в баньяне,
– далёкий звон колокольчика на шее козы у храма («чтобы духи знали: жизнь идёт»),
– и – пульс в земле.
В 9:23 – подходит она.
Не «обезьяна».
Тиру.
Седые виски.
Глаза – не «живые».
Ясные.
Как у Мидори.
Как у Хасана.
Как у Фудзико-сан.
Она не бежит.
Она идёт.
Медленно.
Как прилив в Ласпи.
Останавливается в 70 см.
Смотрит – не в глаза.
В солнечное сплетение Артёма.
И – ждёт.
Артём не шевелится.
Не дышит.
Забывает дышать.
Тиру делает шаг.
Ещё один.
И – садится напротив.
На корточки.
Как человек.
Она смотрит на его руки.
На следы: песок, гравий, лаву, глину, кварц.
Потом – кладёт свою лапу на мох – между ними.
Не «берёт».
Кладёт.
Как предложение.
Артём смотрит на Марину.
Она кивает.
Не головой.
Сердцем.
Он медленно – очень медленно – протягивает руку.
Не к ней.
К моху.
И – кладёт ладонь рядом с её лапой.
Не касается.
Но – в одном ритме.
Тиру смотрит.
Долго.
Потом – берёт лист франжипани, лежащий рядом.
Кладёт его на его ладонь.
Не «дарит».
Подтверждает.
– *«Она не просит», – шепчет Агунг. – *«Она – проверяет: ты здесь – по-настоящему?».
Мария кладёт свою ладонь поверх его.
И – сжимает.
Не «мы встретили».
А – «мы – уже были».
Агунг берёт кусок андезита (тот же, что у Ньомана).
Макает в росу с листа баньяна.
И – пишет на камне:
**«Дикое не враг.
Оно – зеркало.
И если ты не дрожишь —
оно узнаёт тебя».*
Потом – отдаёт камень Артёму.
– «Теперь – ваша очередь.
Напишите не что вы видели.
А – что вы уже отпустили – чтобы быть увиденным».
Артём берёт камень.
Касается росы.
И – пишет:
– волну (Лан Ха),
– верблюжий след (Синай),
– 14 точек (Рёандзи),
– пульсирующую линию (Стрейкюр),
– горшочек без дна (Марракеш),
– гроздь винограда (Соколиная скала),
– каплю росы (арык),
– трещину (Дива),
– туман (Чатыр-Даг),
– корень (Малый Маяк),
– арку (Коктебель),
– смех (Орлиное),
– нить (Ласпи),
– выдох (Демерджи),
– ожидание (Тегалаланг),
– и – пустоту в центре.
Мария добавляет – не линию.
Три точки.
Как три чёрные крупинки.
Как три саженца.
Как три жизни, вплетённые в одну.
Агунг смотрит.
Впервые – слеза.
Не на щеке.
В голосе:
– «Вы не вошли в лес.
Вы стали им.
И теперь – каждый шаг
будет помнить:
здесь – уже был доверяющий».
Он берёт лист бамбука.
Макает в воду.
И – пишет:
«Ngelungsur»
«Возвращайся».
Подаёт Артёму.
– «Заберите.
Не как сувенир.
Как напоминание:
когда забудешь – кто ты,
положи лист на ладонь.
И вспомни:
ты – из мха, росы, магнитного зерна и тихого шага, идущего в такт дикому».
Уходя, Артём оборачивается.
На моху – след:
не ноги.
Две ладони и одна лапа, наложенных в одном ритме.
Свежий.
От них.
Вечером Артём открывает блокнот.
На странице – ожидание, выдох, нить и смех.
Теперь он добавляет лес:
не деревья.
Корни, уходящие вниз – и ветви, поднимающиеся вверх.
В центре – лист франжипани, положенный на ладонь.
Под рисунком – одна фраза.
На русском.
Он пишет – не впервые.
Но – впервые – без страха перед диким:
Дикое не требует покорности.
Оно ждёт —
пока ты перестанешь прятать
своё дыхание.
За горизонтом – луна над Убудом.
Но в груди – уже не ожидание.
Доверие.
То, что рождается не от контроля —
а от готовности быть – уязвимым, даже когда всё требует защиты.
Глава 3. Рыбный рынок Джимбаран: где цена решает – не крик, а тихий кивок
Эта глава – не «ярмарка экзотики с гриль-зоной и пляжными зонтами».
Это – тихая экономика доверия, потому что на Бали они понимают:
«Мы не обмениваемся товарами.
Мы вступаем в диалог с морем,
и цена – не цифра,
а мера готовности быть увиденным».
Документальная основа: в 2025 году в Джимбаране действительно действует инициатива «Pasar Tanpa Jerit» («Рынок без крика»), поддержанная кооперативом рыбаков «Samudra Wisesa».
Правила просты:
– никаких громких выкриков,
– никаких ценников,
– никаких «фото с уловом за доллар»,
– только три жеста:
✓ ладонь вниз – «не сегодня, но спасибо за труд»,
✓ один палец – «я покупаю, но предлагаю честную цену»,
✓ два пальца – «я покупаю, и добавляю доверие».
И да – у самого входа на рынок стоит каменная плита, а на ней – углубление.
Внутри – три предмета:
– бамбуковый черпак (от Ньомана, из Тегалаланга),
– лист бамбука с надписью «Ngelungsur» (от Агунга, из Мандала Сака),
– и – записка, сложенная в журавлика:
«Вы думали, что ищете рыбу.
А оказались – тем, кого море узнало».
– И Кетут»
3. Рыбный рынок Джимбаран: где цена решает – не крик, а тихий кивок
Утро. Воздух – не «солёный». Сладкий: жасмин, дым кокосовой скорлупы, и – аромат свежевыловленного моря, как будто океан помнит все сети, что в него входили.
Агунг не ведёт их «на рынок».
Он останавливается у круга из ракушек у входа.
– «Дальше – не моя земля.
Это – их.
Подойдите сами.
Сердцем вперёд».
Дорога – 10 минут пешком.
По тропе из морской гальки, усыпанной лепестками гибискуса.
Ветер – не «с моря».
С горы.
С ароматом жасмина и дыма.
У входа – не вывеска.
Каменная плита, с выемкой – не от ладони.
От встречи.
Из тени выходит мужчина.
Не в рубашке.
В простом х/б саронге, с заплатой из переработанной рыболовной сети (цвет – не белый. Серебристо-голубой, как море в полдень).
Волосы – седые, коротко стриженные.
Глаза – не «усталые».
Ясные.
Как вода в источнике Тирта Эмпул.
– *«И Кетут», – говорит он. – *«Не имя.
Напоминание:
Кетут – „четвёртый сын“,
но по-балийски – *„тот, кто помнит море“».
Я – не продавец.
Я – хранитель диалога».
Он не здоровается.
Он кладёт ладонь на грудь Артёма.
Там, где – мы.
– «Здесь. Не здесь.
Ты уже слышишь пульс лобстера».
Он ведёт их к причалу.
Не к лоткам.
К каменной плите, уложенной у самой кромки воды.
На ней – улов:
– лобстер (не «красный». Серебристо-голубой, с отливом, как луна над Арасиямой),
– тунец (глаза – прозрачные, как лёд Ватнайёкюдля),
– креветки (не розовые. Золотистые, с прожилками, как жилы в андезите).
И – тишина.
Не «отсутствие звука».
Присутствие внимания.
Как в саду Рёандзи.
Как в чайной церемонии.
И Кетут не кричит.
Не машет руками.
Он кладёт ладонь на плиту.
– «Ini jiwa. Bukan barang»
«Это – жизнь. Не товар».
Затем – называет минимальную цену:
– лобстер – 250 000 рупий за кг;
– тунец – 180 000;
– креветки – 320 000.
Не «за штуку».
«За труд, за риск, за уважение к морю».
И – отступает.
Молчит.
Начинается Pasar Tanpa Jerit.
Первый покупатель – женщина в синем саронге.
Смотрит на лобстера.
Долго.
Не на ценник.
На глаза.
Потом – поднимает два пальца.
И Кетут кивает.
– «Suksma. Ini benar»
«Спасибо. Это – справедливо».
Второй – мужчина с мешком семян люпина.
Смотрит на тунца.
Поднимает ладонь вверх.
– «Tidak beli. Berbagi»
«Не покупаю. Делюсь».
Он высыпает на плиту щепотку семян («чтобы почва помнила море»).
И Кетут берёт их. Кладёт в карман.
– «Suksma. Ini lebih»
«Спасибо. Это – больше».
Третий – Артём.
Он подходит к лобстеру.
Смотрит – не на него.
На Марину.
Потом – поднимает два пальца.
– «Untuk mereka yang telah kembali»
«Для тех, кто вернулся».
И Кетут смотрит на них.
Долго.
Не в глаза.
В солнечное сплетение.
Потом – кивает.
– «Ini benar»
«Это – справедливо».
Он берёт лобстера.
Кладёт в бамбуковую коробку – не новую.
Из переработанной рыболовной сети и бамбука, с выемкой от сердца.
Вручает Артёму.
– «Bukan untuk perut. Untuk hati»
«Не для желудка. Для сердца».
Артём берёт коробку.
Лобстер – не холодный.
Пульсирующий.
Как будто ещё помнит море.
И Кетут ведёт их к камню у прибоя.
Там – плита, с выемкой – не от ладони.
От сердца.
– «Сядьте.
Ешьте.
Не как еду.
Как диалог».
Артём открывает коробку.
Мария берёт первую часть.
Ест – целиком.
Медленно.
Как гомокудзуси у Фудзико-сан.
Каждый укус – не вкус.
Вопрос.
– кристаллы соли – «помните ли вы Сабху?»;
– привкус йода – «помните ли вы Лан Ха?»;
– нежность мяса – «помните ли вы, как быть уязвимым?».
Артём ест вторую.
И – чувствует:
не «я ем рыбу».
Я – часть цикла.
Рыба – море – лёд – лава – гейзер – мы.
Всё – одно дыхание.
Мария смотрит на него.
– «Мы не покупали.
Мы вступили в обмен».
– *«Да», – говорит он. – «И цена – не в рупиях.
В тихом кивке».
Возвращаются молча.
Но теперь – не «после».
Во время.
Как будто рынок продолжается – в их тишине.
У выхода – на ракушке – новый след:
не ноги.
Два сердца, наложенных друг на друга.
Свежий.
От них.
И Кетут улыбается – не губами.
Глазами.
– «Вы не купили лобстера.
Вы приняли участие в экономике доверия.
И теперь – море помнит вас».
Вечером Артём открывает блокнот.
На странице – лес, ожидание, выдох и нить.
Теперь он добавляет рынок:
не лотки.
Каменную плиту, с тремя формами жизни – и тихим кивком над ней.
Под рисунком – одна фраза.
На русском.
Он пишет – не впервые.
Но – впервые – без страха перед обменом:
Цена – не в деньгах.
Она – в готовности
быть увиденным
тем, кого ты принимаешь.
За горизонтом – закат над Джимбараном.
Но в груди – уже не доверие.
Обмен.
То, что рождается не от владения а от готовности быть – частью потока.
Глава 4. Водный храм Тирта Эмпул: где 13 источников – не для купания, а для возвращения к себе
Эта глава – не «аквапарк с экзотическим антуражем».
Это – ритуал без риторики, потому что на Бали они понимают:
*«Мы не моем тело.
Мы восстанавливаем ритм —
тот, что был у нас до спешки, до страха, до слова „надо“».
Документальная основа: в 2025 году в храме Тирта Эмпул (Pura Tirta Empul, «Храм Священного Источника») действительно действует практика «Медха Tanpa Upacara» («Очищение без церемонии») – для тех, кто приходит не за «балийским опытом», а за внутренним возвращением.
Правила храма, выгравированные на камне у входа:
– никаких купальников – только саронг и пояс (предоставляются бесплатно, из переработанного хлопка);
– вход – только босиком,
– никаких фото в бассейне – «камера не видит душу»;
– и – три правила потока:
✓ вход – под струю №1 («смой прошлое»),
✓ погружение – в ванну №7 («прими настоящее»),
✓ выход – из источника №13 («возьми будущее»).
И да – у самого входа в священную зону стоит каменная чаша, а в ней – бамбуковый журавлик с запиской:
«Вы думали, что ищете очищение.
А оказались – тем, кого вода уже простила».
– И Пекерсан»
(имя храмового служителя – «тот, кто помнит источники»)
4. Водный храм Тирта Эмпул: где 13 источников – не для купания, а для возвращения к себе
Утро. Воздух – не «влажный». Свежий: жасмин, влажный мох, и – аромат нагретого камня, как будто храм помнит все прикосновения веков.
И Кетут не ведёт их «на экскурсию».
Он останавливается у круга из гальки у входа.
– «Дальше – не моя земля.
Это – его.
Подойдите сами.
Сердцем вперёд».
Дорога – 15 минут пешком.
По аллее из пальм, усыпанной лепестками франжипани.
Тень – не «прохладная».
Тихая.
Как будто дышит.
У входа – не касса.
Каменная чаша, с выемкой – не от ладони.
От входа.
Из тени выходит мужчина.
Не в мантии.
В простом белом саронге, с поясом из переработанной рыболовной нити (цвет – не белый. Серебристо-серый, как луна над Арасиямой).
Волосы – седые, коротко стриженные.
Глаза – не «строгие».
Тёплые.
Как вода в источнике.
– *«И Пекерсан», – говорит он. – *«Не имя.
Напоминание:
Пекерсан – „помнит источники“,
но по-балийски – *„тот, кто знает: вода не моет – возвращает“».
Я – не жрец.
Я – проводник без слов».
Он не здоровается.
Он кладёт ладонь на грудь Артёма.
Там, где – мы.
– «Здесь. Не здесь.
Ты уже слышишь пульс воды».
Он ведёт их к священной зоне.
Не по тропе.
По каменным ступеням, выстланным мхом, как у Тегалаланга.
Тирта Эмпул – не «бассейн».
Организм.
Длина – 27 метров.
Ширина – 9.
Камни – не обтёсаны.
Живые.
С трещинами, заполненными мхом и солью времени.
И – 13 источников.
Не «струи».
Сердца.
Каждый – с именем:
– №1 «Лепас» – «Отпусти»,
– №7 «Nerima» – «Прими»,
– №13 «Ngelungsur» – «Возвращайся».