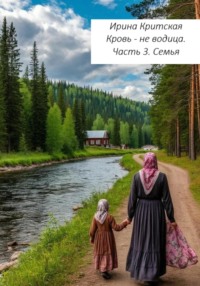Полная версия
Рассветное небо над степью
Баба Фрося внучку очень любила, а вот невестку недолюбливала. Она к сыну и ходить-то не очень жаловала. Хоть мать и делала вид, что рада, принимала радушно, старуху было не обмануть, глаз подслеповатый, а все равно острый. Нутром она чувствовала холодность Анастасии, да и не навязывалась, у самой хлопот полон рот. Бабушка жила с семьей батиной сестры Елены, толстой, ласковой хохотушкой, у нее был полон дом детей мал мала меньше, и бабуська только успевала поворачиваться. Внучата сновали от бабки к матери, скучать не давали. А Дарьюшку баба Фрося жалела, хоть и в отдалении внучка росла, в “чужести”.
– Да не возьмет она, баб, конфет твоих. Я серьги тайком утащила, поперек воли ее пошла, боюсь хворостиной выдерет. Что делать-то?
Дарьюшка вдруг задним умом поняла, что наделала, снять бы серьги эти чертовы, но как приросли они к ней, кажется – снимешь и мир рухнет.
– Ну, коль наделала, так отвечай, чо уж. А косыночку надень. Обойдется. И конфект возьми.
– Ух ты. Ромашечка-колосочек бежит… Куда спешишь, цыпа? Сеструху не видала?
Дарьюшка на полной скорости затормозила, чуть кулек с конфетами не выронила – тропку ей перегородил Колька. Он стоял, подбоченившись, нагло глядел, жевал что-то, то и дело показывая острый белоснежный оскал. Ухватив Дарьюшку за локоть, притянул ближе, присвистнул.
– Ух ты! Да ты, мать моя, не в монашки ли подалась? Что это у тебя на голове-то?
Дарьюшка оттолкнула руку насмешника, натянула платок до самых бровей, чтобы не было видно косынки, которую ей повязала бабка, да умело так, до самых бровей, спрятав уши с сережками. От этого Дарьюшка стала казаться старше, почти девушкой, только испуганной и немного чудной.
– Отойди. Не лезь. Пусти! Машка в кино собиралась, сказала – с подружкой. Отстань.
Противно улыбаясь, Колька отступил, провалившись начищенным сапогом в снег, Дарьюшка проскочила мимо, чувствуя, как горит у нее рука в том месте, где ее сжал парень. Прямо огнем. И лицо горит, как будто его обожгло ледяным ветром.
Анастасия пришла, когда уже темнело, бросила шаль на лавку, устало поправила тяжелый узел волос, бросила хрипловато.
– Отец пришел? Ты кашу в печь сунула?
Дарьюшка засуетилась, пошурудила в печи, потом схватила ухват и двинула горшок подальше, к самому жару.
– Горячий уже, мам, наверное. Папки еще нет, я одна.
– А сестра где? Опять на гульки? Вот я вас выпорю, нет от вас помощи, маета одна! Что это у тебя?
Анастасия подошла к дочери, тронула косынку, взяла ее за подбородок , глянула глаза в глаза.
– Что за дурь-то? Где ты взяла платок этот?
Дарьюшка замерла. Она аж присела от ужаса, вот ведь дура, думала, что мать не заметит, внимания не обратит. Дрожащими руками она вытащила из кармана фартука кулечек конфет, сунула матери, пропищала.
– На, мам. Тебе купила.
Анастасия сдернула платок с дочкиной головы, остолбенело уставилась на сережки.
– Кто тебе позволил, дрянь ты такая?
И тут Дарьюшка не выдержала. Заревела так жалобно и отчаянно, что лицо ее враз стало мокрым, губы обмякли, как тряпочки, а нос распух. И Анастасия вдруг устыдилась. Отошла от ревущей дочки, развернула кулек, увидела свою любимые конфеты и тоже чуть не пустила слезу.
– Ладно, Даша. Ну что ты ревешь-то? Носи уж, коль нацепила, кто уши-то тебе проколол, руки бы оборвала. Ну… Не плачь. Давай с тобой чайку что ли с конфетами твоими. А дай гляну!
Дарьюшка, с трудом удерживая слезы, подошла к матери, выпрямилась, постояла, опустив глаза. Анастасия поправила сбившиеся сережки, осторожно распустила косицу, подняла волосы Даши повыше, подвела ее к зеркалу.
– Гляди, доча. Вот будешь постарше, так и сережки к лицу тебе будут. Это сейчас ты, как в лягушечьей коже. А потом скинешь ее, станешь царевной. Не плачь.
…
Когда батя зашел в комнату, он прямо так и встал у дверей. Дочка с матерью весело щебетали за столом, лопая конфеты, а синие искорки от Дарьюшкиных сережек кидали отсветы на беленый бок печки.
…
– Маш… А ты знаешь того парня, сына тетки Дуни? Ну, той что уши колет?
Дарьюшка и сама не знала почему она вдруг спросила про него. Просто ей сегодня сон приснился. Стоит она, вроде, в длинном белом платье на лодочке. А лодочка плывет по реке, да медленно так плывет, еле – еле. И вся она расписная – ромашки там, розочки, стрекозки, как в сказке, прямо. И не качается даже, плывет, как пишет, вроде тянут ее за нить невидимую. А вокруг деревья распускаются, кусты тоже, все в цвету белоснежном. А на голове у Дарьюшке венок – волосы распущены, венок их цвета яблоневого, да пахнет так, голову кружит. Стоит она, даже не думает куда лодка ее везет, так ей хорошо на душе, так радостно. И вдруг видит на том берегу парень стоит. Высокий, плечистый, с волосами, вроде, как длинными по плечи, а на лбу тесемка. И так он ей напомнил кого-то, а она никак вспомнить не могла. А проснулась – вспомнила на кого. На мальчишку этого, что из тогда в теть Дунином доме встретил.
Машка посмотрела на сестру, пожала плечиком
– Да он малахольный. Блаженный. Все знают. А зачем тебе?
Глава 7. Пролески
И все равно Дарьюшка стеснялась сережек. И не снимала, казалось ей, что они приросли к ее ушам, прямо вот снимет, и случится что-то нехорошее, а и спокойно ходить в них не могла, стеснялась. Поэтому так и носила косыночку свою, привыкла к ней, да и красила она ее, чуть прибавляла лет. Мать ругалась сначала, а потом рукой махнула – бес с тобой. И вот только матушка одобрила, погладила девочку по голове, по косынке прямо, покрутила своим длинным носом, наклонилась.
– И правильно, дитя. Бог, он скромность любит, нечего волосьями трясти, так ты прямо умница. Ну-ка, дай тетрадку гляну.
Она взяла тетрадку, в которой Даша весь вечер выводила ровные буковки, кивнула.
– Вот! Как скромница, так и умница. Батюшка порадуется, зря он что ли учит вас, дурней.
И снова потеребила Дарьюшку, задержала руку на косице, причмокнула удивленно.
– Гляди, зимой у тебя хвостик крысиный был, а вишь – потолстел. Ничего, ничего, выправишься. Главное Бога чти, мать слушай и скромной будь. Иди.
Дарьюшка послушно встала, уложила тетрадку в авоську, выскочила на двор. И подумала – “Слава Богу матушка сережки не нащупала. А то была бы скромница”.
…
Весна грянула потопом, да таким, что взбесившаяся вода бурлила в долах, срывала молодые деревца, ломала их, как спички, и бросала в потоки серой пенистой воды, унося их, истерзанных, в реку. Небо, еще недавно лежавшее на крышах серой тяжелой массой, вдруг взорвалось яркой, ослепляющей синевой, поднялось так высоко, что прилетающие стаи гусей казались далекими тоненькими линиями, состоявшими из еле заметных черточек. Время, сонно ползущее и почти незаметное, вдруг стало быстрым и суетливым, понеслось, как шар под горку, и не успели сельчане оглянуться, как начался сев. Батя с матерью пропадали в полях сутками, хозяйство легло на плечи Машки и Даши, и они аж пыхтели от натуги, кое-как успевая все. В один из таких дней, когда Маша с трудом тянула по тропке полное ведро молока, а Дарьшка уже процеживала козье из своего бидончика, в сени пробрался Колька. Стоял, как кот, усмехался, тер пальцем только намечающийся ус.
– Ну что, дуры? Тетехаетесь здесь, как старухи, и на гульках вас не видать. А Машк? Мне что? Другую девку подобрать, что ли? Я свистну, с десяток повиснут, А, краля?
Машка поставила ведро, испуганно вжала голову в плечи, подошла к парню, запищала тоненько.
– Ну, Коль… Дел ведь много, мамке некогда. Я седня приду, не сердись. Вот честно!
И тут Даша вдруг вылезла. Она сама даже не поняла, что на нее нашло, но так за сестру стало обидно, до слез. Одним прыжком подскочив к Кольке, подбоченилась, крикнула звонко
– Свисти! Свистун. И волоки свой десяток, пузо только не надорви. А Машка в десятке не ходит, она одна. Все равно лучше ее на селе нету!
Колька обалдел, отступил даже, не нашел ничего лучшего, как пробормотать.
– Ну-ну. Ишь ты!
А Дарьюшка двумя руками вытолкала его на двор, с треском захлопнула двери, повернулась к сестре.
– Ты, Маш, зачем разрешаешь-то ему так? Гордость есть у тебя?
Машка стояла, как побитый щенок, хлюпала носом, но молчала. Потом подкралась к окну, чуть отвернула занавеску, смотрела, как Колька, сплюнув под ноги, меряет длинными ногами тропку, уже поросшую ярко зеленой муравой.
– Не придет больше. Вот что ты наделала, Дашка? Не придет…
– И ладно! Ты вообще видела кто на тебя засматривается, Маш? Кузнец новый! У него плечи с аршин и кузня, как два наших дома. А ты… Дура!
…
Прибрежный ивняк встретил Дарьюшку тихим шелестом молодой листвы, запахом согревающейся воды и песка. Пробравшись по тропке между кустами, она тихонько пошла вдоль берега на свое местечко. Там в это время цвели, как сумасшедшие, пролески и хохлатки, лесок был укрыт разноцветным покрывалом – ярко- синий, белый, розовый сплетались между собой в причудливый узор, соперничая красотой с небом и рекой. Дарьюшка всегда сюда приходила весной, набирала букетик, сплетала венок, распускала свою косицу, выпуская волосы на свободу, украшала их цветами и долго сидела на теплом песке, глядя, как играет течение вокруг начинающих подниматься стрел кубышек. Здесь ее никто не видел. Здесь она могла быть собой, мечтать, превращаться в прекрасную царевну, ну или в русалку, всех потрясающую своей красотой. Вот и сейчас Даша стащила свою косынку, распустила ленту, выпустив и правда ставшими погуще волосы, воткнула в них несколько синих цветов и побежала к берегу. Уселась на песок, откинула пряди за плечи, чуть покрутила головой, играя сережками. И вдруг поняла, что не одна.
Чуть поодаль, опершись на небольшой самодельный табурет со странной высокой спинкой, на которой был укреплен каким-то образом белый лист, стоял тот самый мальчишка. Тот, который разрисовал комнату тетки Дуни. Художник. Он с удивлением смотрел на Дашу и вытирал тряпкой испачканные краской руки.
– Здравствуй. Знаешь, у тебя цветы в волосах и сережки одного цвета. Ты разрешишь, я набросаю это? Очень красиво получится.
Глава 8. Чужой дом
Батя пришел поздно, никогда раньше так не возвращался домой, глянул странно и спрятался в кладовке, вроде дело у него какое там. Точно, как пес Шарик, он так шмыгнул в будку как-то раз, когда во двор как-то раз заскочил соседский огромный кобель, шмыгнул и выглядывал оттуда, как будто украл чего. Дарьюшка удивленно проводила отца глазами, покосилась на мать. А та зло терла здоровенный медный таз, аж живот, который у нее последнее время стал большим и тяжелым, подпрыгивал. Таз уже сверкал надраенный, как солнышко в июле, а она все терла, терла, еще немного и тазу дырка будет. Почуяв недоброе, Дарьюшка на цыпочках вышла в сени, столкнулась там с Машкой. У сестры тоже было растерянное лицо, чуть дрожали губы, и казалось,что она вот-вот заплачет.
– Машк. Что случилось-то? Чего это с папкой? Заболел что-ли?
Машка приложила палец к губам, дернула Дашу за руку, утащила сестру во двор
– Тихо! Что ты разоралась-то? Папка, говорят, загулял!
Дарьюшка не поняла, что это имела ввиду сестра, у нее перед глазами вдруг встала странная картина. Папка в красивой цветастой рубахе, в новом картузе танцующей походкой идет по главной улице. У него в руках гармонь, за ухом цветок ромашки, он растягивает мехи, поет “Во саду ли в огороде”, а за ним идет толпа деревенских девок в праздничных юбках и платках.
– Кто говорит, то, Маш? Как загулял-то?
Машка оглянулась по сторонам, оттащила сестру еще подальше, они спрятались за старой вишней, единственным деревом во дворе, и Дарьюшка даже не содрала свой любимый вишневый клей, который всегда совала в рот, когда находила.
– Колькина мать говорила бабам у колодца, а я подслушала. С Людкой – вертихвосткой, сказали. По пьяни…
Дарьюшка не верила. Папка никогда, вроде, и пьяным не был, так, веселеньким приходил, подарки приносил. А чтобы вот прямо, как дядька Тимофей…Который домой прямо по улице на четвереньках шел… Не было такого.
– Врет, Маш! Не такой папка. Ну ее. Вот!
Даша нарисовала прутиком на земле толстый овал с круглым мясистым носом и дулей на затылке, плюнула в него и растерла ногой.
– Не верь. И я не верю. Домой пошли.
Дарьюшка развернулась, дернула вишневую ветку в сердцах, и вокруг запуржило белыми лепестками, как будто снег вдруг выпал. Но она даже не заметила этой красоты, пробежала сразу в зал, и остановилась, замерев. В доме стояла гробовая тишина. Папки не было видно, а мать, поддерживая живот одной рукой, другой кидала на расстеленную простынь Дашины вещи.
– Что встала-то? Помогай. К бабке пойдешь, поживешь с месяцок. Она возьмет, обещала. А Машка к сестре моей, в город поедет. Кузьмич ее отвезет, пусть. Не до вас мне сейчас.
Дарьюшка хотела что-то сказать, но мать так зыркнула на нее, что слова застряли в горле, и слезы навернулись на глаза.
…
– Иди, иди, ластонька, не стой в калитке, люди и так, как собаки лают-то! Дай узелок твой донесу.
Румяное, круглое, как шар, доброе лицо тетки Елены излучало тепло и ласку, и у Дарьюшки оттаяло внутри. От Елены пахло пирогами и еще чем-то теплым, то ли молоком, то ли маслом, за юбку держался крошечный парнишка, похожий на колобок, Толяшка, младший сынок.
– Я теть Лен, не виновата. Я отработаю, я даже на поле могу, если чего надо. Я мышкой…
Дарьюшка лепетала эти слова, как будто ей кто-то нашептал их, не свои, как будто, и у тетки Елены улыбка растаяла, щелочки глаз повлажнели.
– Да, деточка. Не надо нам твоей работы, что ты, Господи. Поживешь, у мамки все наладится, дитеночек народится, да и домой пойдешь. А пока живи нам на радость, вон бабка твоя с утра по двору носится, как молодая. Иди к ней.
Даша немного успокоилась, пошла по двору, заросшему муравой и одуванчиками, там, в самом конце длинного ряда сараюшек и правда бегала баба Фрося. А еще она увидела свою Муську, которая тоже выглядела смущенной, как будто понимала чего. Баба Фрося развернулась и прямиком помчалась к внучке, что-то на ходу ворча низковатым хриплым голоском.
– Давай сюда, горькая моя. Тут в сараюшке мы с Ленкой тебе дом наладили. И Муська твоя рядом будет, все радость.
Как оказалось бабушка и тетка отрядили Дарьюшке сарайчик. Вымыли, вычистили, побелили стенки в голубоватый цвет, занавесочки повесили, топчан поставили и столик. Да так здорово получилось, так светло и нарядно, что Дарьюшке прямо навек тут остаться захотелось. Она разложила свой узелок, навязала на толстые ветки, наломанные за плетнем веревочек, получились вешалки. развесила свои платья да сарафаны, укрыла платком, а остальное сложила в маленький сундучок, который ей приволок Санька – старший сын тетки Елены.
– На, владей. И не нюнь, сам бы тут жил, как царь. Никого нет, одна коза. Свобода. А ну, глянь сюда.
Санька, толстый увалень чуть постарше Дарьюшки, открыл сундучок, вытащил оттуда зеркало на подставке и маленького медвежонка, страшного, свалявшегося, с одним глазом.
– На тебе. Это мой. Ты его в речке постирай, вместо глаза пришей бусину, у мамки спроси. Играйся!
Дарьюшка вдруг развеселилась. Этот Санька и сам был похож на мишку – смешной, пыхтящий, смущающийся.
– Дурной ты, Сань. Я ж большая уже. Ладно, давай, постираю.
Санька покраснел, прогундел в нос
– Пошли вечерять, мамка звала. И ведерко даст козу доить. Пошли.
…
– Ты, деточка, папку-то не суди. В жизни разное случается, сама потом узнаешь. А они взрослые, все решат, тебе скажут. Живи пока…
Бабушка шелестела ей на ухо ласковые слова и, как будто баюкала. Она проводила Дарьюшку до ее сараюшки, села на топчан, обняла ее за плечи, говорила, говорила, качалась из стороны в сторону. И Даша засыпала, колокольчики на занавеске то росли, становились огромными и темными, а то уменьшались, превращались с голубые бусинки. А когда она уснула, бабушка подоткнула одеяло со всех сторон, перекрестила ее, поцеловала и уложила медвежонка рядом на подушку.
Глава 9. Пасека
Такой Дарьюшка мать еще не видела. Та шла, мотаясь из стороны в сторону, платок был сбит на бок, тяжелая коса, всегда уложенная в узел и прикрытая шлычкой упала на плечо, растрепавшиеся волосы болтались неряшливо, и казалось, что Анастасию кто-то бил. Все было истерзанным- кофта, из-под которой выбилась блузка, и даже юбка – бархатная оторочка оторвалась с одной стороны и тащилась следом, грязная от мокрой после дождя земли. Анастасия увидела дочь, остановилась, поманила ее красной, почему-то, рукой. Иди, иди. Посмотри на мать-то! Видишь, что папка твой разлюбезный с ней сделал! Гад он. Убью!
Дарьюшка подскочила к матери, попыталась поправить ей платок, чтобы любопытные глаза, уже уставившиеся на них из окон, поменьше разглядели, но мать с силой толкнула ее, да так, что Даша, не удержавшись, повалилась на мокрую мураву.
– Уйди! Ты тоже такая, как отец твой. Подлая. Вижу, за него заступиться явилась! А я не прощу. Поняла, дура! Не прощу!
Дарьюшка попыталась встать, но мать толкнула ее ногой, и сама упала рядом, как будто ее подкосили.
– Пусть видят. Лююююди! Глядите! Что ее батяня любимый с ее матерью натворил. Лююююдииии…
Анастасия орала, как оглашенная, каталась по земле, ее расхристанная коса пласталась в луже, а лицо стало совсем бордовым, вот-вот загорится. Дарьюшка кое-как отползла от матери, встала, беспомощно посмотрела по сторонам, и облегченно выдохнула, рядом стояла тетка Елена. Она дернула девочку за руку, оттащив ее в сторону, Даша спряталась за ее спину, уцепилась за юбку, как маленькая, и с силой закусила губу, чтобы не зареветь.
– А ну вставай! Что ты тут разлеглась, как корова. Напилась, так домой иди, не пугай народ, веди себя прилично. Ты ж дите ждешь. А похожа на кого? А ну!
Тетка Елена одним движением мощной руки, захватив Анастасию за локоть, подняла ее с земли, ляпнула по щеке, да так, что у матери дернулась голова, а глаза вдруг приняли осмысленное выражение, затянула ей платок, застегнула кофту.
– Домой иди. Да дите соглядай, ишь разоралась тут. Девка твоя не виновата, что ты с мужиком поладить не можешь. А ну! Пошла!
Тетка Елена с силой толкнула мать к тропке, и та вдруг послушно пошла было, но через минуту, когда ей осталось дойти до ворот совсем немного, вдруг скорчилась в три погибели, заревела, как медведица и снова повалилась в грязь. Тетка Елена наклонилась к Дарьюшке, огладила теплыми ладошками ее похолодевшее лицо, шепнула.
– Иди домой, детка. Я мамку отведу, вишь она чудит, выпивши. Иди…
Дарьюшка в ужасе побежала по дорожке, и уже не видела, что мать пластается прямо на дороге, страшно и некрасиво расставив ноги.
…
– Ничего, ничего, деточка. Она очунеется, в себя придет, наладится все у вас. Папка вернется, вас заберет, мамка доброй станет. Потерпи. А пока я тебя с Санькой и Муськой твоей на пасеку к деду Ивану отправлю. Медку поедите, молочка попьете, наладится все. Спи…
Голос бабушки звучал странно – и далеко и близко, и ее полное, доброе лицо тоже – то отдалялось, то приближалось, то становилось маленьким, как горошина, то надвигалось страшновато, и полные, чуть дряблые губы шевелились прямо у Дарьюшкиного лица. А потом ее начали качать теплые волны, и что-то душное накрыло ее с головой и утянуло под воду.
…
Санька сидел на телеге рядом с бабкой, привалившись к ней спиной и свесив ноги. Он безуспешно пытался сделать свистульку из стручка акации, но у него ничего не получалось, он ломал уже пятый стручок и раздраженно ворчал. Дарьюшка смотрела, смотрела, и не выдержала, бросила медвежонка, вырвала у парня из рук стручок, мастерски откусила половинку, зубами оторвала полоску и вдруг засвистела соловьем, да так, что бабушка обернулась, резко натянув вожжи.
– Тьху, безобразница, напугала. Свистит, как разбойник. Вон, глядите, подъезжаем. Дед ползет.
Дарьюшка отдала смутившемуся Саньке свистульку, глянула туда, куда махнула рукой бабушка. А там, из под шатра липового леса, как лесовик из дупла, выглядывал дед Иван. Маленький, круглый, как шар, с седой редкой бороденкой, в здоровенной соломенной шляпе – настоящий гриб.
– Ишь, старый пень. Вообще глаз домой не кажет, скоро одичает, как тот волчара. Так и торчит здесь. Эй! Дееед!
Голос у бабушки вдруг стал звонким, как у девчонки, она стыдливым движением поправила платок, и потерла губы. Наверное, чтобы они стали порумянее. А дед вприпрыжку подбежал к телеге, снял бабушку, как ребенка, на секунду прижав к груди и чмокнул в нос.
– Гостюшки мои дорогие… Помощники заявились. Вот спасибо-то. И ты бабусь, никак остаться решила?
Бабушка вывернулась, сделала сердитое лицо, забурчала.
– Еще чего. У меня там делов невпроворот. Сами тут. На держи, Ваньк. Пирогов привезла.
И сунула сияющему от счастья деду корзинку с пирогами.
…
– Ты, Дашк, поздно из лачуги не выходи. Дед, он спит, как сурок, а тута неподалеку ведьмака живет. Говорят, она людей заманивает, а у нее внучок с них картины рисует. И потом души туда поселяет. А человек без души потом живет.
Санька говорил быстро. у него испуганно блестели глаза, и Дарьюшка поверила. И так ей стало страшно, что она подошла к крошечному окошку и плотно задернула ситцевую занавеску.
Глава 10. Гроза над долом
– Ты, Дашунь, по лесу не бегай, сразу по тропке ступай. Деревня, она близко тут, в двух шагах прямо. За липняк выйдешь, он – вон просвет, уж видно его, там луговина с ромашками, маленькая, что блюдце. А вниз с лога спустишься, уж и деревню видать. А дом ихний на краю, на отшибе. Отдашь туес, яйцы заберешь. Давай.
Дед сунул Дарьюшке туесок с медом, поправил ей косицу, повернул спиной, потуже затянул поясок платья. Даже мать так не делала, Дарьюшка даже застеснялась, дед, а заботливей матери. Кивнула, достала из кармашка косынку, она редко ее тут надевала, сережки прятать было не от кого, завязала узелок под подбородком, спросила.
– А ты, дед Вань, может Саньку пошлешь? Он места лучше знает, а? Или пусть со мной бежит?
Дед Иван вдруг расстроился, как маленький, покраснел даже.
– Так вишь, внученька. Качка у нас седня, одному и не управиться. То раньше все мужик придет, Ленкин то, а бывало и папка твой. А теперича они вон, разбежались кто куды. Вот и дите пришлось привлечь, куда мне одному то. Не сердись, девка. Сбегай.
Дарьюшка снова кивнула, чмокнула деда в морщинистую щеку, подхватила туесок и побежала по тропке сквозь залитый утренним солнцем липняк.
А липы цвели, как сумасшедшие. Тропинка бежала, петляя между прямых стволов, липы были здесь старые, мощные, несущие прямо к небу свои кроны. Сквозь их кружевную листву и пушистики цветущих кистей пробивалось солнце, кидая ажурные тени на густую траву. И по этой траве скакали сотни солнечных зайчиков – разных, и больших и совсем крошечных, и белых и оранжевых, они менялись от игры липовых ветвей на свежем ветерке, а Даше казалось, что они с ней играют, озорно прыгают то на ее голые до локтя руки, то на светлую юбку ситцевого платья, а то бегут впереди нее по тропке, как будто заманивая. Аромат цветущей липы кружил голову, Дарьюшке вдруг захотелось остановиться, сесть на пушистую подушку мха, прямо у толстого липового ствола, закинуть голову и смотреть в небо. Так она и сделала. Привалилась спиной к теплому дереву, поставила рядышком туес, погрозила пальцем самому настойчивому зайчику и вдруг задремала. Прямо вот провалилась в сон, как будто на нее кто-то накинул легкий, но непрозрачный темный, душистый платок…
…
– Погоди, не открывай глаза. Немного так полежи. Ну, пожалуйста…
Голос, который выдернул Дарьюшку из зачарованного сна был ласковым и странно знакомым. И хотя он принадлежал явно не взрослому, то ли мальчишке, то ли девочке, но Даша почему-то послушалась, полежала еще с минутку с закрытыми глазами, но потом пришла в себя, нахмурилась и, села, сердито вытаращившись на нахала.
– Еще чего. Ишь, выдумали. Лежать я еще тут буду!
И обомлела. Перед ней сидел на корточках, чудно устроив на острых коленях тетрадку, и быстро чиркая в ней карандашом, тот самый мальчишка из Шатневки. Как его там?
Дарюшка напрочь забыла, как зовут этого художника, но ей и не надо бы было знать этого, пристают тут. Она вскочила, отряхнула платье от налипших травинок, поправила съехавший платок и краем глаза глянула, что там этот приставала чертит в своей тетрадке. А там, чуть приоткрыв рот лежала на траве смешная девчонка. У нее торчало одно ухо из-под платка, на нем неловко, как -то боком угнездилась сережка, а рядом стоял туесок, в который был воткнут вихрастый букет ромашек. Рисунок был, конечно, простым, но в легких, коротких линиях легко угадывалась героиня, и эта героиня очень Дарьюшке кого-то напоминала. Покраснев, как рак, она схватила туес, и неожиданным для себя басом буркнула.