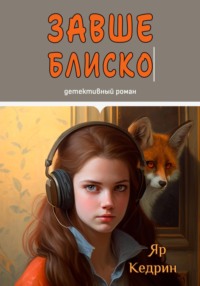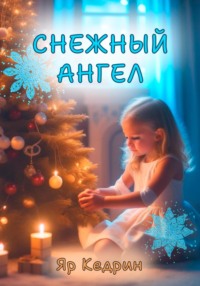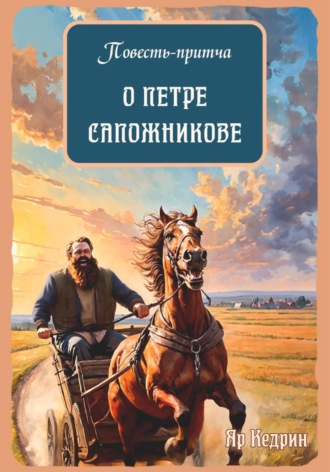
Полная версия

Яр Кедрин
Повесть-притча о Петре Сапожникове
Жил себе, да жил человек. Жил один. Звали его Пётр, а целиком Пётр Сапожников, и был он мелким купцом. От отца с матерью ему остался старенький скрипучий домик, в котором он и коротал деньки. Жилище небольшое, но, как говорил сам Сапожников, с душой.
Со двора покошенные, изъеденные короедом бревенчатые стены скрывались зарослями ирги, а камни под ними, разбросанные для красоты, туго забил пырей и одуванчик. Оттого дом со двора был хорош.
Хуже обстояло дело с подъезда. Встречая гостей, дом скрежетал разбитыми ставнями, ронявшими последнюю стружку белой краски. Но Пётр сообразил, как это исправить. Ставни сняли нанятые местные мужики, а наличники обкрасили в весеннюю бирюзу. Стало нарядно. Пётр был горд своей работой. Однако никаких гостей, кроме торговцев с бумагой на сделку, здесь давно никто не видал.
Сапожников очень гордился тем, что рабочих нанимал не за бутылку, как остальные в селе, а за деньги. На просьбу достать им отпробовать заграничного вина работники получали свёрнутый кукиш, а вот за труд – положенные тридцать копеек серебра. А уж ввечеру шли в кабак брать на них водки.
Если снаружи над теремом Пётр ещё хоть как-то хлопотал, то внутри можно было оставить приятную старину. А старина здесь царила повсюду. Взять хотя бы отцовский шкаф, где Сапожников хранил иконы и книги, отчего очень дорожил им и никого к нему не подпускал. Кроме как упёртым, этот шкаф и не назвать никак. Сами посудите. Сколько, по указу хозяина, ни тёрла его Марфа-прислужка, как ни скоблила – всё одно: блестят на солнышке, бьющем из окна, его начищенные бока и дверцы, а захлопнешь, так через невидимые щели тут же выскочат вихры пыли, сверкая на свету. И сколько не хлопай – лететь не прекращает. Хоть окно притворяй, чтобы не видать такого безобразия.
Как ворчливый старик, трещал ножками стул, на котором Пётр Сапожников любил поразмыслить. Возьмёт одну мысль и крутит её с боку на бок. Вспомнится что попутно – и то не грех рассмотреть да подвигать взад-вперёд. И особенно хорошо было вздыхать под такие нетяжёлые, пустяшные думы. Также делал и отец его, и дед. Мудрые мысли только тогда к ним и наведывались. К примеру, дед Сапожников дошёл до того, что передумал пить кислую брагу своей бабки-жены, а стал брать соседскую, да любил похваляться, что не задорого.
Сладко Петру сиделось непременно у окошка. Сидит себе, поглаживает на груди любимый медальон с красный камнем. Чуть придвинет прозрачную белую шторку так, чтобы с улицы стать незаметным, и глядит себе на дали.
У кромки земли там падают птицы сквозь облака, прокалывая их своими тонкими клювами, и тогда облака эти будто протекают из прорех, размазываются, словно масляные палевые да дымчатые краски. Падают птицы за травяные холмы, иглами, наверное, вонзаются в землю, посылая окрест звонкий чистый зов. Падают в изумрудную бездну с розовыми свечками кипрея, а купец ждёт, где же они выпрыгнут обратно в воздух. И явственно чудится ему запах мокрых цветов и терпкий луговой ветер. Тут уж ускользает совсем, где минуту назад блуждал его разум. Смотрит он весело за «чёрными иглами» вдали, смотрит и улыбается, а под упитанным, тяжёлым Петром Сапожниковым всё надрывается стул – пищит, хрустит с натуги.
Упрёт купец локоть в подоконник, а тяжёлую голову поместит на ладонь; зачешет по-простому русые волосы назад, оставит пальцы во вьющихся вихрах и покоится так полчаса-час, пока какой-нибудь свиной визг со двора его не содрогнёт. Тогда он с тяжёлым ругательством подымется, бросит прощальный взгляд на окрестность, словно надолго уезжает, и идёт смотреть ту же картину только со двора, попутно полагая всем работу.
Время обеда Пётр любил выбирать непременно сам. Для этого у него на тумбе стояли тяжёлые дубовые часы с позолоченными стрелками. Как только стрелки пододвигались к двум часам дня, он начинал придумывать, когда бы перекусить. И так вкусно задумывался, что скоро исходился слюной и чуть не бежал к тарелкам.
Есть он любил, но ел спешно, разве что подпуская свою работницу и кухарку Марфу помножить себе горку жареной картохи с солёными грибами и курятиной да подлить кислого квасу, чтоб пуще щипало язык. А поев, похвально и гулко хлопал себя по круглому пузу.
И тут он не отрывался от кухонного окна. Жуёт, а сам всё вглядывается: что там за дорогой, что там дальше за жёлтыми «лужами» пижмы? Вот бы прогуляться – глянуть. А прогуливался Пётр частенько. Компанию ему составляла его верная небольшая собака – псина по кличке Аба́ка. Откуда же было взяться такому глупому имени? Когда её, побитую, только подобрали у соседнего села сыновья Марфы, купец не имел в голове идеи, как назвать приблуду, но однажды за бутылкой исспросил своего друга-торгаша. У того, заядлого остряка, возьми да и выскочи: «Собака – Абака!» К сожалению, к счастью ли, но сказано это было без смеха, не походя на мимолётную шутку. Оттого и прилипло. Так и осталась вислоухая беленькая дворняга с рыжим хвостом – Абакой. Только дворо́вые не желали запоминать заморской клички и применяли что легче ложилось на ухо: «Петр Семёнович встал! иди, Сабака, встречай барина!» А коли барин ещё не поднялся, обращались к ней иным макаром: «Пошла, Сабака, в свою будку, покамест тебе зад не отшибли!» – И дальше мели себе тугой метлой подворье.
Давно уж тут жила Абака: пообвисла порядком да уши местами отрепались об цепкие терновые кусты рядом с конурой. По забору натянули провод, по которому она только на привязи и шныряла. Но для неё бывало и доброе время днём.
Наестся кренделей и чаю Пётр Сапожников, покличет преданную Абаку – и за порог на широкую вытоптанную дорогу. Идут не спеша, бредут, а по сторонам клонятся медовые шапки бузины, шуршит пахучая сирень, из-за соседских калиток звенят птицы с молодых вишен. Прямо перед тобой, не сворачивая, убегает курица. Где-то лязгают на колодце вёдра. Из полей пестреют жёлтые пуговицы лютиков и долетает запах горькой полыни и ромашки. В пору отовсюду запахнет и сладкой липой.
Идут барин с подругой своей верной в лес, на ореховую рощу. А соберутся пораньше, прямиком после обеда, так поспеют добрести до самой реки. Тихонько бежит-плещется она там под невысоким увалом, убранным кучерявой лещинной рощицей, разливается бьющимся сверкающим платком, на котором вышиты всклокоченные облака и тонкие ласточки.
Светит ли, моросит ли – гуляли долго. Только если застучит уж спорый дождик, будто пустыми ложками по лопухам, Абака прижмётся к серым складкам хозяевого сапога и жалостливо тянется к дому. Тогда уж поворотят назад.
На прогулке Пётр не думать – дышать любил. Так вздохнет, бывало, что голова пойдёт кругом, и, чтоб не оступиться, даже ухватится он за куст. А ещё любил давать волю Абачке своей. Всё прибавлял зычно: «А ну, припрыгни! Вон пень какой небывалый, а вот гляди, какая развесистая рябина – аж глаз горит!» Не захочет Абака пень нюхать, так хозяин сам пойдёт будто мимо, зазывая её с собой, а ежели и так пень останется не у дел, то придётся тогда псушку к нему за шкуру волочить – пень-то и вправду хорош: с ворсистый мягким мхом, с поганками разноцветными и пряно пахнет болотом.
На обратном пути Сапожников был очень собой доволен, что нагулял Абаку, и уже не обращал внимания: тут ли она или сгинула в ореховом овраге. Это было заботой самой Абаки – не потерять обратный путь. Потому она радостно носилась где-то позади, наконец выбирая пригодные и лю́бые ей самой места.
Ходил Сапожников в лес гулять, чтобы не сталкиваться с местными. Они не любили Петра. Отца его жаловали, деда вспоминали добрым словом, а вот Петра, «собачьего-абачьего сына!», терпеть не могли. Сапог (как они его звали за спиной, а кто посмелей – и в глаза) топчет родной край, расторговывает, что земля и река-матушка родит, и совести неймёт. Так толковали вокруг.
Старики зло здоровались, совсем глухие старики стращали купца примером его же отца и деда – как честно те пахали землю и брали рыбу только на потреб; бабы бранились, что Сапог чаще брал на труд чужих, а свои вон под забором пьяные – пыль глотают.
«А что ж прикажите делать, – отвечал им Сапожников, – коли они деньги не берут и бутылку просят?»
«Тьфу, прорва!» – плевались бабы и оскорблённо уходили, в сердцах размахивая передниками.
Их же мужья, за кого бабы и бранились, тайком подбирались к Сапожникову, чтобы взять в долг, и умоляли Христом, пользуясь тем, что купец человек был набожный. Сперва давал, но после, как пропивали, стребовать не смог и на долги поставил себе крепкий зарок.
Да, богобоязненный был человек Пётр Сапожников. Каждый в доме знал, что когда приходил глубокий вечер и оставался час до покоя, хозяин желал полной тишины. Все ступали на цыпочках, а он крепко запирался в своей комнате, чтоб помолиться.
Церкви в их отдалённой деревне не имелось, а ездить в соседнее село было несподручно. Конюх Евсей говорил, что одно колесо вот-вот сломится надвое и нельзя выходить на крутую, ухабистую дорогу. «По мягкой пыли – и то худо скрипит. Надобно заменить, барин. Авось чего!»
Церковник же уверял, конечно, что Бог истинно слышит человека лишь в Его собственном доме – святом храме, но Пётр не дорожил этими словами. Во-первых, он видел, как поп тот тайком отливает себе вина после службы, а во-вторых, если кто задавал попу живопотребный вопрос, тот только нагибал пониже ухо и громко вопиял: «Не слышу! Молви-ка вторительно и шибче!»
Однако пропускать беседу с Богом нельзя, потому запирался купец у себя поглуше, дабы никто не услышал его личного разговора с Небесами. Но и здесь лежало препятствие.
Был у него враг неодолимый, подосланный, как считал купец, самим что ни на есть чёртом. Враг, который каждый божий вечер все силы отдавал, лишь бы помешать святому действу. Сверчок.
Вот хоть вчера. Зажёг Сапожников огарклую свечку. Достал псалтирь. Подошёл было к куту молиться, как тут паршивец заново застрекотал! И только Пётр слово – так тот сразу: «Стриу, стри, стриу, стриу!»
Подождал немного, потоптался, сморщившись, купец. Только опять зачал нараспев сто первый псалом, как откуда-то поперёк выскочило ещё наглее: «Стри-и! Стр-р-и!»
«У-у, негодяй! – притопнул ногой Сапожников, – всяко лезет богоугодное дело загубить!» – И принялся искать врага, как непременно делал после каждого заката.
Отодвинул тумбу, лупой обглядел шкаф, со свечкою лазил даже под кровать – но бесследно стаился проклятый сверчок. Утирая вспотевший лоб рукавом халата и опёршись книжкой об пол, насилу поднялся Пётр Семёнович на ноги. Кряхтел по-дедовски и непрестанно фыркал. Но вот встал он наконец навытяжку и начал вдругорядь затягивать речитатив, как бестия опять застрекотал под руку!
Тут Пётр в сердцах хватил книжкой по изголовью кровати так, что резкий звон оглушил его самого. Но и сверчок – затих.
Благодаря Господа и потирая уши, купец в покое и тишине принялся кое-как за чтение. Он положил в воздухе ровный широкий крест и с жаром зачитал пять строк. На самом деле, молился он немного, вначале. Редко доходил до середины, а конец и вовсе никогда от себя не слыхал. Сапожников ждал, пока душа его шепнёт, что Бог внимает. А душа от ретивого, страстного напора купца начинала кивать уже через пять-десять строк. Тогда Пётр и начинал уже понемногу уклоняться с пути. Меж написанных слов невольно вставлял то одну маленькую жалобу, то другую. То одного нерадивца вспомнит, то бабу какую ругнёт.
Сперва Сапожников разгонялся, тихонько говоря о прокля́том селе, о пропащих должниках, как бы со стыдом. Скажет что и замолкнет, вслушиваясь рядом. Чует вроде: стерпел Бог и не осудил ничем. Тогда Сапожников разгуливался и добавлял ещё новость сверху, ещё жалобу… И уж через несколько минут клял на чём свет стоит и погоду, губившую не раз его товар в дороге, и конкурентов-мошенников, и продажных базарников – и многое-многое другое, что только попадало на язык, тут же переворачивалось в обиду. А икона перед ним легонько поблёскивала в сумраке коптящей свечки.
– Устал я… послушай, как тяжко колотится моё сердечко, – шептал он пискляво, цепляясь пальцами за медальон. – Зачем ты, Господи, дал мне отроду это село и этих злых нелюдей? Зачем не уготовил поблагостней место? Эх, вынуждаешь же меня грешить…
В тот миг он взглядом устремился к небу, будто в доказательство давая Богу время проглядеть очередной день, пережитый купцом в тревоге и сумятице.
А пока сам Пётр молчал, мысли его густились, бегали вокруг да около и всё стучали в испуганную голову. Зачем я скрываю, что дом совсем износился и прячу прорехи? Почему не очищу колодец, как запрашивал Козьма (младшенький Марфы), «чтоб мамка воду не отстаивала, а сразу пить давала»? Зачем вру в случайных толках, что гости у меня не переводятся, когда уж пятилеток, как не слышно ни одного колокольчика, кроме коровьего ботала[1] от бредущего на луг стада? Зачем обещаю взять кого торговать в помощники и не беру? Отчего болтаю Евсею, что приставлю хорошее колесо, а сам не ищу его? И попу сколько раз слово давал явиться хоть к вечерне, а всё никак да никак? Как же тяжко врать. Ловят, тычут, напоминают, злодеи! Чего им до меня сталось? Пусть отвернутся, Господи. Разве они своей жизнью не сыты, чтобы ко мне приставать? Ох, не вынуждай меня врать, ох, устал я. – Схватился за сердце Пётр, которое как бы кольнуло.
И замолчал. Хмуро, глубоко замолчал, будто вот-вот чего изменится.
А потом вдруг сказал суровым голосом:
– Дык не ври – и заботы никакой! – И поразился сам себе. Без намерения он почесал шею и притих, собираясь с головой. Но встрепенулся.
– Ага, «никакой»! Как же лихо хватил! – передразнил он тонким голосом тот, суровый. – Ну починю я дом – так и что? Начнут ещё пуще пальцами своими острыми тыкать да ненавидеть. Будут трезвонить, мол, совсем зажирел (купец похлопал себя по пухлым бокам), всё к себе тащит и крошкой не делится. Самое мало, забросают тухлыми яйцами. А так – боюсь: подожгут!
Вот нет гостей у меня – и не надо. Это жена их чествовала, а теперь-то она уж на том свете грибы собирает. Только медальон от неё остался с её портретиком. Приедут, наедят, страшно вспомнить, рубля на три, а тебе – бездарная прогулка на троечке да никому не нужные их хвалы за обед. Тьфу, лицедеи-проеды! Ладно бы только люд на мою жену напраслину возводил, так и названые гости в те же сани! Ушла да ушла, говорят, к другому! Глаза, говорят, у меня мёдом замазаны! А то я свою голубку не разумею – ясно, она никогда бы… с её-то классами и воспитанием… Если только… Нет! Решительно никогда! Как я и говорил: украли против её доброй воли – не иначе. Когда я с пистолетом отыскал её и похитителя, как она бросилась ко мне – словно из плена, из силка выпорхнула моя голубка.
…И померла она не от срамной болезни, как кривословят. У неё ещё со свадьбы – печёнка стреляла. Вот помню: кричат все «Горько!», а её перекосит, и она за бок враз ухватится… (Пётр размашисто повертел головой, сбрасывая неприятную память.)
Да и церковь подождёт! – разгорячился Сапожников. – Телега вот сломается, как тогда торговые дела вести? И ни врача тебе, ни почты (ближайшая почта была в соседнем селе, куда дважды в месяц Пётр лично езжал хлопотать с письмами). Нет, без телеги – не жизнь, страх один! Да и Троица – уже в конце недели, как тут успеть с колесом? Тоже не годится. Выбирать надо неспешным глазом, а то деньги только на ветер ронять. Может, к Преображению и поспею…
– Ну а колодец чего не почистить? – спросил внимательный суровый голос уже менее сурово, остепенённый доводами. Однако вопрос всё равно раздражил Петра Семёновича. Он побагровел, как рак, и выпалил:
– Почему, почему?! Это всё язычество поганое, люди сами виновны: то кусок каравая в шахту бросят, то мёду или киселю нальют, то пряжи утопят, будто эти суеверия принесли бы им завтра богатства. Вот тебе и чисть после этого – только деньги переводить зазря. Кнут им нужен, бесам, а не колодец!
Но тут, ясно, Пётр Семёнович хватил лишнего. Поэтому сразу кинулся в псалтирь и истово зачитал ещё пять строк. Затем огородился от сказанных собою мрачных речей твёрдым крестом и успокоился.
Тогда суровый голос в нём погас, а тонкий обратился к стрехе[2]:
– Ну и чем же я не прав, Господи? Я могу говорить и не делать – и от этого никому не случится плохо. Ну легонько соврал маленький человек, и что ж от того будет соседу или вон Евсею, кому проглотить каши да рюмку – вот и вся нужда? Потому хочу – делаю, что сказал, а хочу – нет. Миру от моей капли не прибыть, не убыть. Ежели не прав я в чём, так ты научи неразумного раба, наставь!
В конце говорил он рьяно, голосом будто пробиваясь сквозь темноту этого грешного села. И снова ожидал ответа. Иногда он давал Богу в распоряжение до дюжины минут и лишь потом водил по сторонам ухом, ища чудесного звука. Но, раз Бог молчал, очевидно понимая, что и вправду вынудил купца на длинный пустой язык, Пётр вздыхал и, притворно понурый, плёлся к намятой Марфой перине.
Перину любил он пуще Абачки своей. И сию ночь провалился он в неё, словно в пуховую бездну. Сегодня Марфа напушила постель до божьего облака, потому что Пётр обещался отвезти её двоих ребятишек в соседнее село и устроить в единственную далеко окрест школу, рядом с церковью. Раз в десятый обещался, да покамест выходило отбрехаться. Что будет завтра – кто знает? Авось, дождик выльет всю дорогу в топкую грязь – и ещё денёк перина будет легче пёрышка. А там – как бог даст.
Вот вчера Пётр задул огарок и с мягким взглядом шепнул на икону: «Сохрани мя и спаси грешного». Потом не спеша повернулся на тот бок, что меньше болел после тучного ужина. Под конец стола, пожалуй, свиная щека да крендель с маслом пошли за лишек. От воспоминания его взяла раскатистая икота. Перекрестивши рот, купец сложил руки под подушкой с гусиным пухом, и икота его складно перешла в свистящий сап.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Глухая железная погремушка для коров и лошадей.
2
Избяная крыша или её свисающий край.