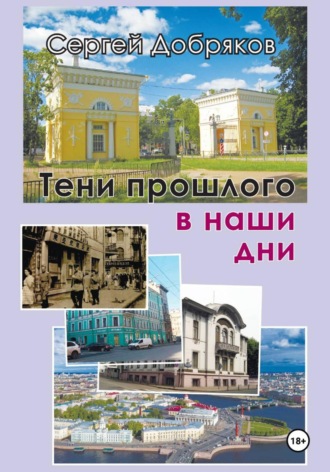
Полная версия
Тени прошлого в наши дни

Сергей Добряков
Тени прошлого в наши дни
На сопках Манчжурии
Совершенно секретная смерть поэта
Рассказ
Любые совпадения реалий этого рассказа с обстоятельствами жизни, творчества и смерти поэта Арсения Ивановича Несмелова (Митропольского) так же случайны, как и расхождения между первыми и вторыми. Впрочем, умные люди недаром повторяют, что случайность есть проявление закономерности.
Нет смысла утомлять читателей описанием некоего места заключения. Скажем лишь, что расположилось оно в Гродекове (ныне посёлок Пограничный). На российском, а тогда советском Дальнем Востоке. Вот время действия конкретизируем: первые дни декабря 1945 года.
В одной из камер ждёт своей участи огромная масса русских эмигрантов. Их отловили за последние месяцы в Маньчжурии. Сюда переправили… Одних из Харбина, других… Но обойдёмся без деталей. Здесь и белые эмигранты всех поколений, и советские перебежчики.
На примере тех и других советские органы государственной безопасности доказывают партии, правительству и лично товарищу Сталину, что деньги на просвечивание бывшей Маньчжоу-Го тратились не зря. И японских милитаристов берут тёпленькими (в плену с ходу продолжают изучать). И их маньчжуро-китайских марионеток. А белых, которые мечтали о реванше и с японцами связались… Ну, пропадут птички. Коготок-то серьёзно увяз…
Итак, тюрьма. Камера…
Сидит уже немолодой человек, поседевший, похудевший и одутловатый. Декламирует негромко, без пафоса и веско:
Всходит месяц колдовской иконой —Красный факел тлеющей тайги.Вне пощады мы и вне закона —Злую силу дарят нам враги.Ненавидеть нам не разучиться,Не остыть от злобы огневой…Воет одинокая волчица,Слушает волчицу часовой.Тошно сердцу от звериных жалоб,Неизбывен горечи родник…Не волчиха – Родина, пожалуй,Плачет о детёнышах своих.Гробовое молчание вместо аплодисментов…
– Ну, Арсений Иванович, – тянет рассудительный голос сбоку, также немолодой. – Вы, батенька, конечно, поэт настоящий. И чувствуете всё, как полагается при вашем таланте. Только с чего вы взяли, что Родина о вас будет плакать?
– Виноват?
– Это уж мне перед вами виноватиться. А то я в своё время не мог понять, какой чёрт притащил лично вас к этому прохвосту!
– Вы Родзаевского имеете в виду?
Арсений Иванович вообще говорит, может быть, и не безучастно. Но спокойно.
– И якобы всероссийскую вашу фашистскую партию в целом. Или как вы ещё там именовались?.. А вы на кого подумали? Знаете, какое оскорбление сейчас самое страшное вот за этими стенами? «Фашист». Хотят человека с грязью смешать получше – фашистом называют. С учётом того, что германцы вытворяли на нашей земле все эти годы… Меня на сей счёт уже просветили, будьте покойны.
– Ну кто же мог знать? У нас-то, в Харбине? – звучит некий голос со стороны.
– А надо было думать… Взяли молодые остолопы у итальянцев ярлык, наклеили сами на себя… Потом решили, что народ под Советами это усвоит, вроде бы так же, как усвоил учение Маркса. Держите карман шире!
– Всё же, может быть… сжалятся? – продолжает тот же голос.
– Красные-то? – откликается обличитель Родзаевского. – Может быть, и сжалятся. Только вначале покарают. Я вон на допросах распинаюсь, что японцы в последние годы всех заставляли работать на себя, иначе… Страшно подумать! Могли и к эпидемиологам своим отправить для опытов.
– А что чекисты? – интересуется остролицый молодой человек.
– Слушают внимательно. Просят рассказать, что за слухи до меня доходили об этой лаборатории в Пинфане. Я, конечно, ничего не таю… Так ведь они всё равно мне вспомнят, что я от японцев должность взял, пусть небольшую. Ну хоть не расстреляют.
Остролицый молодой человек явно не прочь поддержать разговор:
– А скажите… Вы Родзаевского в августе видели?
– Вам-то зачем?
– Да я б ему в глаза посмотрел, – следует ответ. – Потом бы наплевал в лицо мерзавцу. Ну и в парашу макнул бы как следует. Он ведь смелый был только за спинами японцев, вы это знаете? И мы, дураки, вокруг стеной стояли… Главное, японцы мою группу в сорок первом с диверсионным заданием погнали, а Родзаевский нам ведь ещё до этого голову замутил… Вот и пришлось убеждаться, как народ нас, фашистов, принял.
– Да уж, в НКВД вас бы сдал не первый, так третий или пятый.
– Главное, не было расстрела. Всё-таки я людей не убивал и не взорвал ничего. Ну так на доследование уже не раз таскали, я вам говорил. Теперь вот тоже. Именно сюда почему-то… А знаете, что за штуку я услыхал о Родзаевском тут, в лагерях? Костя-то наш двадцать лет назад комсомольцем был. И активным. Только ему указали, что для поступления в вуз понадобится ещё в рабочих побыть. А он обиделся и в Харбин удрал. И развернулся… Ладно, хвалить коммунистов не будем. Но предавать зачем, если уж с ними связался? А теперь этот негодяй, пожалуй, и японцев продаст, лишь бы шкуру спасти. Нам он собственноручно капкан отворил, а сам сидел и книжонки свои поганые писал…
– Так… Родзаевский и семью предал, когда удирал из Харбина. Жену и малых деток спокойно оставил на милость чекистов. Зато с ним увязалась какая-то… уж не знаю… Не то экзальтированная барышня, не то просто гулящая девка.
– Просто гулящая девка не увязалась бы, – возражает остролицый молодой человек. – Эти свой профит знают. Если только за опиум не берутся. Скажите лучше: вы моих-то в Харбине так и не видели? Вы же отца знали… И… семью моей… невесты… не вспомнили?
– Увы… Ничего не могу о них сказать.
И позабыв о злобе и борьбе,Я нежно помнил только о тебе,Оставленной в живущем мире светлом,И глаз касалась узкая ладонь,И вспыхивал, и вздрагивал огонь,И пену с волн на борт бросало ветром.Голос Арсения Ивановича звучал, как и прежде, негромко. Однако с напором необыкновенным:
Клинком звенящим сердце обнажив,Я, вздрагивая, понял, что я жив,И мига в жизни не было чудесней.Фонарь кидал, шатаясь, в волны – медь…Я взял весло, мне захотелось петь,И я запел… И ветер вторил песне.Остролицый молодой человек подсаживается к Арсению Ивановичу:
– Знаете… Я, кажется. понял, чем вы меня так восхитили… Ну ещё тогда, мальчишкой. Я ведь вам свои стихи показывал – может, помните?..
– Так ведь мне их показывал весь Харбин.
– А вы мне ещё посоветовали попробовать силы в прозе. Нашли, что я крайне наблюдателен… Эх, если бы меня с толку не сбили!.. Уехал бы я потихоньку в Шанхай… Даже в Америку перебрался бы! Там бы писать всерьёз начал… А тут отец нас с мамой хотел увезти, а маме с Харбином трудно было расставаться… И дед ведь рядом на кладбище, и бабушка… Потом уж японцы узду всерьёз накинули…
– А вы попали в «бригаду Асано»? – Арсений Иванович, видимо, пытался припомнить личность остролицего молодого человека.
Ответ не обошёлся без издевательской рифмы:
– В бригаду Асано, к подполковнику Наголяну. Повидал Халхин-Гол. Главное, напротив меня были такие же русские ребята, только с комсомольскими билетами… Потом японцы меня поставили на диверсионное обучение. Дальше… Повторяться не буду. Одного только не пойму… Вы ведь были и старше меня, и умнее, и опытнее… Хоть бы… тоже в Шанхай отправились!
– Харбин слишком напоминает Россию. Причём старую, уездную, губернскую… Даже несмотря на все современные веяния. Вы-то Россию знать не можете – родились в Харбине, как-никак… А у меня она под ногами лежала и сквозь душу прошла…
Арсений Иванович взял себя в руки. Продолжил, сдерживаясь чуть сильнее:
– Да… А Шанхай точно так же напоминает Запад. Там бы я по этой причине душевно потерялся. Я понимаю: китайцы рано или поздно от иноземных начал оставят только стены. Но пока этого не случилось, я харбинец. В Москве-то мне уж побывать не суждено. Хотя Владивосток отсюда не слишком далеко.
– И всё же… Родзаевскому, конечно, было бы опасно противоречить или отказывать. Но вы к нему, мне показалось… Как зверь на приманку…
– Может быть. Но разве дело в нём? Дело… в вас, например. А у вас было только три пути. Или раствориться хоть в Северной Америке, хоть в Южной. Да и по Европам… Или валяться в ногах у красных. Или искать то… что вы нашли. Когда-нибудь обо мне напишут, что я попытался влезть в вашу шкуру. И стихи писал с этой точки зрения.
– Да… Вы же говорили, что ваши псевдонимы – часть образа.
– Вот я и пытался вообразить, как бы мыслил ваш ровесник и единомышленник с поэтическим талантом. Это был мой изначальный подход.
– Ну да, как в случае с Козьмой Прутковым. Под его маской, извините, тоже бредятина писалась.
– Ничего, я не обижусь. Правда, Козьма Прутков был умным. Отсюда и афоризмы. К тому же его стихи – пародии. А пародия – всего лишь увеличительное стекло.
– Вы, главное, на допросах не признавайтесь, что фашист Дозоров – ваш псевдоним. Знают вас как Несмелова, и ладно.
– Нет уж. Офицеру вилять негоже. Да и всё равно вскроется. Харбин – город прозрачный. А то и вскрылось уже… Давайте я вам лучше снова что-нибудь почитаю.
– Спасибо! Вы, кстати, в лагере со стихами не пропадёте. Знаете, как уголовники любят устное художественное творчество? Разные там пересказывания… У них это называется «роман». А стихи даже лучше. Или рассказы ваши… Обоими ушами каждый будет слушать! Да и начальству можете прийтись по душе… Так! Господа, прошу не шуметь! Арсений Иванович читает снова.
… Арсений Иванович Несмелов проговаривал слова с какой-то особенной мягкостью:
Две зари сошлись на небе бледном.Тает, тает призрачная тень,И уж снова колоколом меднымПробуждён новорождённый день.В зеркале реки заворожённойМонастырь старинный отражён.Почему же, городок мой сонный,Я воспоминаньем уязвлён?А теперь зазвучали жёсткие нотки:
Потому что чудища из сталиПоползли по улицам не зря.Потому что ветхие упалиСтены старого монастыря.И осталось только пепелище.И река из древнего руслаЗверем, поднятым из логовища,В Ладожское озеро ушла.Тихвинская Божья Матерь горькоПлачет на развалинах одна.Холодно. Безлюдно. Гаснет зорька,И вокруг могильна тишина.Снова гробовое молчание. Прерывает его остролицый молодой человек:
– Вы это написали в конце сорок первого? Или чуть попозже?
– Откуда вы догадались? Хотя расчислить можно. Меня-то японцы за пропаганду и идеологию отвечать натаскали и поставили. Я и согласился, чтобы невозбранно читать советскую прессу, да и литературу… И фильмы глядеть… Опять же, Совинформбюро слушать. – Несмелов помрачнел. – А германцев теперь побили те, с кем я некогда боролся… Я ведь прошел всю ту, прежнюю войну. С четырнадцатого года – посчитайте-ка… Но белую идею даже теперь не намерен попирать. В каком бы тупике Белое дело ни оказалось… Память адмирала не предам… И память Каппеля… Да больше мне, наверное, и не осталось ничего… Нет, не ободряйте меня… Не надо…
Вообще, на этот диалог, наверное, реагировали слабее, чем на стихи. По крайней мере, до людей не сразу дошло то, что Несмелов поднялся в порыве, прошёл по камере…
И вдруг начал заваливаться…
Но – вскочили. Столпились.
– Быстро! – зазвучала команда. – Надзирателей зовите! А пока уложите его. Если в больницу переправят – может, ещё спасут?!
– Доктор, а что это?
– Апоплексия, мне кажется… Инсульт, удар… Да зовите же!..
***На следующий день, ближе к середине, остролицый молодой человек сидел в одном из кабинетов, предназначенных для тюремного начальства. Он ел обед, который, судя по набору и качеству блюд, уж явно не входил в арестантский рацион. Ел с какой-то странной смесью неторопливости и быстроты.
– Да вы ешьте спокойно, – подбадривал его некий человек в форме. – Вы заработали. Жаль только, что этот Митропольский-Несмелов скончался раньше времени. Такого упрямца до раскаяния и сотрудничества довести было бы надо. К тому же – поэт…
– Разрешите задать вопрос?
– Спрашивайте.
– Вы его думали использовать свидетелем против Родзаевского?
– Родзаевский и так пытается спасти себя… Он ведь не то, что вы…
Собеседник остролицего молодого человека встал со своего места:
– Сидите. И ешьте…
Начал прохаживаться по кабинету:
– Вот вы… Тогда оторвались от своих, пришли с повинной. И выдали всех, кого могли. Значит, осознали, что вас ввели в гнусные дела. Конечно, вооружённая служба в антисоветских отрядах… Потом – нелегальный переход границы, подложные документы, намерение осуществить диверсию в составе группы… За всё это вы несёте должное наказание. Но вы деятельно раскаялись. Нам все эти годы помогали честно. Надеюсь, что впредь не собьётесь. Досрочное освобождение вам мы проведём. Когда сможем. Устроитесь и поживёте по-хорошему… А Родзаевский… Сколько всего натворил и ещё имел наглость требовать помилования! Не буду даже уточнять, к кому он обращался с этим… Услуги, правда, тоже предлагал…
Дело вот в чём… Если кто-то сбежал за кордон, пока Советская власть не устоялась…
Ну, я вам разъяснял, кажется. Не приняли и не приняли, чёрт с вами. Сидите на здоровье в эмиграции, только в преступления против нас не лезьте. А вот если человек удрал, скажем, через несколько лет, как Несмелов… Это уже измена Родине. Плюс, конечно, шашни с Родзаевским и у японцев служба. Но… Дали бы гражданину лет десять, а там пусть сидит и думает, как войти в советскую жизнь. Захотел бы – помогли бы. В наших интересах, понятно. Человечек-то с именем… Да и талант у него был, это верно…
– Прошу прощения, можно снова задать вопрос?
– Пожалуйста, спрашивайте.
– Я продолжу действовать здесь?
– Нет. Я вас в Москву забираю. Дело такое… Вы в Харбине Охотина Льва Павловича знали?
– Его знали многие. Секретарь Родзаевского. как-никак.
– Ну вот, познакомитесь поближе. Готовится процесс над Родзаевским и ещё над некоторыми. Охотина туда выведут. Вас поставят к нему в камеру. Конкретные задачи объясним потом.
– Я понял вас.
– Теперь доедайте. Поедем через полчасика. Вещи ваши из камеры заберут – вам туда лишний раз соваться незачем… Там ведь тоже психологи сидят.
– А скажите… О моих близких так ничего и неизвестно?
– Да вы сами понимаете, что в Маньчжурии за обстановка.
Остролицый молодой человек согласился.
20-23.01; 19.03.2025
Дорога к забвению
Рассказ
Их домишкам – играть в молчанку,
Не расскажут уже они,
Как скакал генерала Молчанова
Мимо них адъютант Леонид.
Арсений НесмелоеПоэт Арсений Иванович Митропольский, более известный под литературным псевдонимом Арсений Несмелов, сидел в одной харбинской трущобе. Начиналось лето 1930 года. Маленькая комната с убогой мебелью. Вернее – снятый угол Каким-то образом там расположилась весьма убогая мебель. Надо учитывать, что впоследствии Несмелов описывал это логово как бы по касательной. Тень съёмщика и друга тогда интересовала автора гораздо больше.
Леонид Евсеевич Ещин, то бишь съёмщик, старался не вставать. В комнате и без того повернуться было сложновато. А уж ему – тем более.
Да и зачем, собственно, вставать? Дотянуться до чего-то можно и сидя. Книги и бумаги сдвинуты на дальний край стола. А по его середине красуется огромная бутыль шотландского виски. Здесь же две бутылки содовой воды. И два стакана.
– Откуда это? – спросил Несмелов.
– Благодетель наш, хороший человек, – ответил Ещин, имитируя кавказский акцент. Потом обычной русской речью рассказал: – Понимаешь, ему срочно товар понадобилось разгрузить. А людей отчего-то не нашлось. Тоже мне коммерсант! Но быстро подрядил меня. И кое-кого ещё. А денег у него в кассе не сразу хватило. Он нам и выдал часть товаром. В единственном экземпляре каждому. Мы, конечно, помянули добром нашу и вашу тётю. Но взяли. Мне вот это досталось… – Ещин погладил бутыль. – В знак уважения к поэтическому дарованию и человеческой доброте. А содовая водица – в знак премии.
– Надеюсь, деньги не зажилены?
– Да нет. Рассчитался, в конце концов.
Виски – в стаканах.
– Только вот не могу привыкнуть, что красоту эту приходится разбавлять. А то бьёт так… Куда тут нашей родимой! Тем более всем этим напиткам китайским… Если уж я еле справляюсь с виски, так это что-то значит!
– А сакэ ты не полюбил? – заинтересовался Несмелов.
– Всё японское однозначно любить и уважать – это уж для тебя скорее… Слишком ловкие они, японцы. Хотя при этом прямые и доблестные… Но культура их… Это да, умеет душевно успокоить. Даже нашего брата…
– Возможно. Однако ладно… За что пьём?
– Ты не очень удивишься? Память Маяковского.
– Как раз не удивлюсь. Он же был настоящим гением. Даром что красный. С самоубийством его, кстати, что-то не очень понятно. Судя по известным мне обстоятельствам, травили его в последнее время здорово. Может, в идее разуверился? В стихах его разные ноты. Да и пьеса эта – «Клоп»…
– Не чокаемся. Память честного, хоть и заблудшего русского поэта… Да будет милостивым судьёю ему Господь Бог, в коего он не верил.
Выпили.
– Ты содовой, содовой… – Несмелов проговорил это быстро, но как-то не спеша.
Ещин перевёл дух. Помолчал. Потом заявил напряжённо:
– Я вот думаю… Если такие титаны стреляются… Что же? Идея терпит крах?
– Сталин, как полагаю, иного мнения.
– Но и мужики по сёлам недовольны. Казаки тем более… Может, у нас в газетах, конечно, и подвирают. Или мировая печать. Но дыма без огня нет.
– Молодёжь тут, в городе, по крайней мере, воодушевилась.
– Только о фашистах этих с Юридического факультета не надо. Я всё же еврей, притом что русский офицер и человек православный. А они… Да половина из них – мальчишки, выросшие тут, в Харбине. Что они о России знают?
– Не знать можно… – Несмелов деловито разливал виски. – Но есть вера…
– А как можно верить в то, чего не знаешь? – вдруг бросил Ещин. – Что тогда? Я вот даже одной милой барышне задал этот вопрос… Недавно. Ничего – оставила без ответа. Даром что она писать пробует. Когда-нибудь, чего доброго, меня опишет. В не самом шикарном сочинении. А фашизм уродлив. Кроме бед, ничего не жди. Совращаются в него дурачки и бандиты по своему темпераменту. Такое не один я вижу, поверь! Даже если прямо сказать нелегко…
– А что бы ты предложил?
– Ничего. В том-то и дело. Мы никому ничего не можем предложить. Я знаю, что говорю… Тысячи вёрст по Сибири прочесал ведь с оружием, как и ты… И не приняла нас Россия. Не приняла… Это однозначно!
– Об адмирале подумалось? – не сразу спросил Несмелов.
– Разве только о нём? – тянул Ещин. – Вот Перхуров Александр Петрович… Слушай, как жаль, что наше Верхнее Поволжье он тогда, в восемнадцатом, поднять не смог. Скинули бы большевиков малой кровью – и дальнейшей Голгофы не было бы… Тында-рында…
– Но Молчанов, слава Богу, жив и здравствует.
– Да. Он вроде бы в Сан-Франциско. И, кажется, хорошо устроен. Всё-то я знаю.
– Тогда за здоровье Викторина Михайловича.
– За Перхурова тоже бы надо… Не пересидел ведь. И сцапали, и расстреляли…
– Тогда предлагаю за обоих по старшинству их проявления в Белом деле. Частим, конечно. Ладно…
Бутылка опустошалась не очень быстро. Но последовательно.
– Его превосходительство генерал-майор Викторин Михайлович Молчанов, – чеканил Ещин.
– Его превосходительство генерал-лейтенант Владимир Оскарович Каппель, – отзывался Несмелов.
– Его высокопревосходительство адмирал Александр Васильевич Колчак, – резонировал Ещин. Несмелов лишь кивнул, и крайне твёрдо.
Тосты шли в основном без чоканий. Впрочем, когда речь заходила о некоторых сослуживцах, стаканы всё же иной раз сближались.
– Ох, Лёнька, боюсь, опять напьёмся до положения риз наших…
– Слишком много кошмаров мы с тобой повидали.
Ещин задекламировал. Стихи были его собственными, но он их как будто с трудом вынимал из себя:
Мы равнодушны стали к смертиИ без убийств не знаем дня.Всё меньше нас в снегу путь чертитИ у костров вонзает вертелВ кусок убитого коня.Под пулемётный рокот дробныйПроходят годы, как века.И чужды всем, одни, безродны,Идём мы памятник надгробныйБылой России высекать.Ещин помолчал. Будто проводил самого себя в последний путь… Потом добавил с тихим напором:
– Да… А теперь вокруг тоже кошмары. И пустота впереди… Да! За барона тост не предлагай. Ты этого психопата и без того изобразил рельефно.
– Ты про Унгерна говоришь?
– Да. А из живых… Вот атамана припоминать не хочется. Сидит себе этот Семёнов под японцами да денежки копит. А мы виси в пространстве… Таки эх… Тында-рында…
– Давай-ка за тех, кто в Совдепии. Им под ярмом хуже в десятки раз.
– За твоих жену и дочку. Если они… Когда-нибудь вернуться всё же решат… За моих папу с братом.
И за всех остальных. Пошли им, Господи, везение. Если они живы…
Ещина развозило несколько ощутимее, чем Несмелова. А тот явно думал, как его переключить. Да ещё вот на какое дело:
– Лёнька… Прости, а ты пишешь сейчас?
– А кому стихи мои нужны? Да и я… Кроме тебя, наверное, никому скоро не буду нужен. Потом, у тебя талант настоящий. А у меня? То одну строку запорю, то другую хорошей не сделаю… И вся картина выходит какой-то вечно смазанной…
– Ты прибедняешься.
– А вот послушай.
Ещин поднялся со стула. В пространстве он с трудом, но удержался. Дотянулся до того края стола, на который были сдвинуты бумаги. Руководствуясь неким чутьём, схватил, не глядя, самую верхнюю из них. Испуская облегчённый вздох с повышенным содержанием в нём перегара, снова рухнул на стул.
Несмелов быстро сосредоточился. Он сохранял в себе то, что слышал. Время тихо шло.
… И Ещин дочитывал:
Ну а вам круторогий гномБросил блёстки в прорези глаз.Я ведь друга почуял в нём —Он мечтает тоже о Вас!Но и он не мог бы понять,Но и он удивлён бы был,Если б мог я ему сказать,Как я Вас люблю и любил.И медлительный ветерокДолетает мне до лица.Сделай так, сделай так, катерок,Чтоб пути – не бывало конца.Помолчали.
– По-моему, это в печати уже явилось… – протянул Несмелов.
– Да мне-то какая разница, когда и где это написалось и напечаталось! Просто читать приятно. Сам подумай: много ли хорошего мы увидали в жизни? Я походы наши, уж прости, не всегда и припоминать-то хочу… Но вот это… Хоть ненадолго вырвешься. К лучшему. Как из плена… Милые женщины… Гномы вот симпатичные… А здесь, у китайцев, тоже бывают добрые духи… Или домовые наши… Так хочется с ними и к ним.
– Это правда. А я, среди прочего, думал спросить…
– Нет ли у меня чего-нибудь новенького в печать?
– Я твой дар уважаю и ему верю. Поэтому было бы хорошо…
– Знаешь, давай поговорим через некоторое время. Я встал на распутье.
– Как скажешь, Лёнька…
– Ладно, ты иди. А я полежу после этой живительной влаги…
– Всех благ тебе.
И Несмелов поднялся со стула.
– Слушай! – вдруг бросил Ещин.
– Что?
– Знаешь, как я радовался, когда мы на «ты» оказались?
– Может, тебя до кровати…
– Да спасибо, я сам…
… Вскоре после этого разговора Ещин умер. Ходили слухи о его самоубийстве.
Несмелов, как известно, не только написал о нём стихотворение:
Спи спокойно, кротчайший Лёнька,Чья-то очередь за тобой!..Его он вывел и в своей прозе…
Но далее об усопшем мало кто помнил. И вспоминали о нём очень редко. Подчас приходится догадываться, что он мог и что не мог…
16-22.04.2025
Парень с Лахтинской улицы
Тевлик Субботовский
Сюита из литературных парафразов и серьёзных вещей
I. Легенда о Тевлике Субботовском и Александре БлокеВесенним вечером 190… года Тевлик Субботовский встретил у себя на Лахтинской улице поэта Александра Блока, жившего в доме по соседству. Поскольку родителям Тевлика срочно понадобилось купить что-то в лавочке на Большом проспекте, а отец при этом не мог оторваться тоже от какого-то срочного дела, ничего удивительного, что энергичный ребёнок оказался на улице в столь поздний час. (Не маму же выгонять из небогатого семейного круга за покупкой!)
В свою очередь, поэт Александр Блок весь вечер осмыслял принципы мироздания в узком кругу друзей и коллег. Так как мысли у Блока легче кружились при содействии красного вина, ничего удивительного, что, когда он слезал с извозчика, из кармана пальто выпала рукопись одного из бесценных шедевров поэта. (Последнее, впрочем, установилось позднее.)
Извозчик отъехал, а Блок, не обращая внимания на утрату собственного автографа, тихо пошёл домой, где его, согласитесь, уже несколько заждалась Любовь Дмитриевна.
Но Тевлик Субботовский был не только наблюдательным, а ещё и сознательным мальчиком. Сорок с лишним лет спустя его даже можно было бы назвать тимуровцем. Поэтому Тевлик связал факт внезапного обнаружения рукописи с личностью уходящего и подвыпившего поэта. Он поднял автограф, догнал Блока, извинился, вернул ему бесценный шедевр и даже довёл автора до подъезда.



