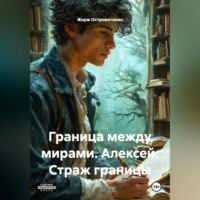Полная версия
Ритуал тёмных времён

Жорж Островитянин
Ритуал тёмных времён
Отличный замысел. Чувствуется дух Гоголя, раннего Булгакова и даже отголоски «Портрета Дориана Грея». Давайте погрузимся в эту мрачную атмосферу.
-–
Глава первая. Опыт над ангелом
Холод входил в кости не через кожу, а будто изнутри, со стороны самого сердца. Владимир стоял у окна своей мрачной квартиры на одной из питерских окраин, глядя, как сумерки вползают в город, густые, как чернила. За спиной в камине скудно потрескивали два полена, но жар от них, казалось, поглощался все той же пронизывающей сыростью, что клубилась над каналами.
Его называли поэтом. Когда-то. Теперь это звание казалось ему таким же ветхим и не имеющим веса, как афиша на заборе, промокшая под дождем. Стихи были лишь первой стадией болезни, попыткой описать зуд под кожей, невидимую рябь на поверхности реальности. Теперь он знал причину этой ряби. Теперь он был не поэтом, а мистиком. Алхимиком души. Экспериментатором.
На массивном дубовом столе, заваленном фолиантами в потертых кожаных переплетах, стоял необычный предмет: чаша из темного, почти черного стекла, наполненная водой. Рядом лежал пергаментный свиток, испещренный знаками, которые не принадлежали ни одному известному языку, и тонкий серебряный скальпель, холодно поблескивавший в отсветах огня.
Владимир отвернулся от окна. Его взгляд, тяжелый и сосредоточенный, упал на клетку в углу комнаты. В клетке сидел голубь. Не городской замызганный сизарь, а птица удивительной, почти неестественной белизны, с глазами-бусинками, в которых, как казалось Владимиру, плескался немой ужас. Он купил его у старухи на Сенной, та, костлявая, с лицом, испещренным морщинами-иероглифами, назвала его «ангелом-хранителем, спустившимся на грешную землю».
«Всякая материя содержит в себе дух, – размышлял Владимир, подходя к столу. – Задача исследователя – не воспеть его, а извлечь. Отделить божественную эссенцию от тленной плоти. Доказать, что душа – не метафора, а субстанция. Холодная, текучая, подвластная воле».
Холодная кровь. Это было его кредо. Прежний Владимир, тот, что писал вирши о «страданиях лилейной руки», исторг бы слезу при виде прекрасной птицы. Нынешний видел лишь объект. Сосуд. Реагент в великом опыте по разгадке тайны бытия.
Он взял скальпель. Металл был ледяным, но его пальцы не дрогнули. Дрожь, любая эмоция – это слабость, шум, мешающий чистому звучанию воли. Он раскрыл свиток. Слова, которые он начал нашептывать, были лишены мелодики стихов; они были похожи на скрежет камня о камень, на шепот высохших листьев. Воздух в комнате сгустился, стал вязким. Пламя в камине погасло, словно его задули, но странный, фосфоресцирующий свет начал исходить из чаши с водой.
Голубь в клетке забился, зашуршал крыльями, издал короткий, жалобный звук, больше похожий на стон ребенка, чем на воркование птицы.
Владимир не смотрел на него. Его взгляд был прикован к чаше. Он продолжал читать, его голос набирал силу, становясь металлическим и безжалостным. Он чувствовал, как по его жилам течет не кровь, а та самая холодная субстанция, к которой он стремился, – сила, отсекающая все человеческое.
Он протянул руку к клетке, не прерывая чтения. Щеколда отскочила сама собой, с тихим щелчком. Он взял птицу. Та не сопротивлялась, она замерла, парализованная древним ужасом, исходившим от этих слов, от этого взгляда, лишенного всего, кроме голой интеллектуальной жажды.
– Дух от плоти, эфир от крови, – произнес он четко, поднося птицу к чаше.
Он провел скальпелем. Движение было быстрым, точным, хирургическим. Не для того, чтобы убить. Для того, чтобы выпустить. Из тонкого разреза на груди птицы не хлынула кровь. Вместо нее в затхлый воздух комнаты хлынул… свет. Теплый, золотой, живой. Он был похож на жидкое солнце, на саму материю радости и невинности. Этот свет с тихим шелестом устремился в чашу с черной водой.
Вода в чаше вспенилась. Темное стекло будто впитало в себя этот поток, и внутри забился, заструился ослепительный золотой узор, похожий на пойманную молнию или на живую, пульсирующую астру.
Голубь в его руке стал просто горсткой перьев и остывающей плоти. Белый, чистый, но бездыханный. Эксперимент удался.
Владимир отпустил тело. Оно мягко шлепнулось на пол. Он не смотрел на него. Его глаза, широко раскрытые, с горящими зрачками, были прикованы к чаше. Внутри нее, в черной воде, плясала, билась и сияла душа. Он сделал это. Он доказал. Он прикоснулся к незримому.
Он медленно протянул палец, чтобы коснуться поверхности воды, ощутить температуру пойманного духа.
И в этот момент золотой свет в чаше вдруг погас. Не постепенно, а мгновенно, будто его перерезали. Комната погрузилась в кромешную тьму. Тишина стала абсолютной, давящей, густой, как смола.
Из этой тьмы, из угла, где лежало тело голубя, донесся звук. Не стон, не писк. А тихий, влажный, отвратительный смех.
Владимир замер. Впервые за долгие месяцы по его спине пробежала ледяная змейка настоящего, животного страха. Холод в крови вдруг отступил, уступив место старому, примитивному ужасу.
Он судорожно чиркнул спичкой. Пламя осветило комнату. Чаша стояла на столе, темная и пустая. Тело голубя лежало там же, где и упало.
Но на пергаменте, куда он сбросил скальпель, проступала свежая, алая надпись, будто выведенная только что невидимой рукой. Всего одно слово, знакомое до боли, его собственный почерк, каким он был в юности, полный надежд и романтического томления:
«Прости».
И смех, тихий и насмешливый, все еще висел в застывшем воздухе, словно впитавшийся в стены, в книги, в саму его кожу. Опыт только начинался.
Отлично, Альберт Хубертзонер – идеальный контрапункт для смятенного Владимира. Его холодный, аналитический ум станет чистым холстом, на котором безумие и ужас Владимира проявятся еще ярче.
-–
Смятение не отпускало его всю ночь. Оно сидело в горле холодным комом, сжимало виски стальными обручами. Слово «Прости», выведенное его же рукой, но не его волей, пылало на внутренней стороне век, стоило их закрыть. А тот смех… Он не был звуком. Он был ощущением, словно под кожу ввели тончайшую иглу и впрыснули чистый, концентратный стыд, смешанный с леденящим ужасом.
Владимир метался по кабинету, зажигал свечи – их свет казался ему враждебным и подчеркивающим жуткую пустоту в углу, где валялся комочек белых перьев. Он пытался читать, но буквы расползались, превращаясь в те же знакомые до боли завитки. Он пил коньяк, но алкоголь не грел, а лишь обострял внутреннюю дрожь.
Он, Владимир, постигший тайны письмен, дерзнувший прикоснуться к душе, как к химическому элементу, – он был напуган, как дитя, оставленное в темноте. Его холодная кровь, которую он так взращивал, вскипела и стыла попеременно, выбивая его из колеи строгого исследователя. Он не понимал что это было. Не неудача эксперимента – нет, он увидел душу, он ее извлек! Это было что-то иное. Вмешательство. Насмешка. Ответ системы на его дерзкий запрос. И этот ответ был написан его собственной рукой.
К утру, изможденный, с трясущимися пальцами, он набросал записку и отправил слугу с ней на другую окраину города, к Альберту Хубертзонеру.
-–
Альберт вошел ровно в назначенный час. Он был невысок, суховат, в безупречно чистом, хоть и скромном сюртуке. Его очки с тонкой серебряной оправой сидели на переносице так, будто были его органическим продолжением. За стеклами lenses его глаза – серые, очень спокойные и внимательные – осмотрели комнату, а затем остановились на Владимире. Он не улыбнулся, не кивнул. Он просто вошел и дал пространству себя оценить.
– Ты выглядишь так, будто провел ночь в философском диспуте с призраком Канта и проиграл, – произнес он наконец. Голос у него был ровный, без вибраций, каждое слово было взвешено и поставлено на свое место.
– Хуже, – хрипло выдохнул Владимир, бессознательно потирая ладонь, в которой вчера держал скальпель. – Альберт, я… я совершил прорыв. Или падение. Я не знаю.
Он заставил себя сесть. Рассказ лился сбивчиво, обрывочно. Он пропускал детали ритуалов, но тщательно, с почти болезненной дотошностью, описал сам момент: излияние света, пойманную в чашу душу, и затем – обрыв, тьму, смех и надпись. Говорил он горячо, срываясь, его пальцы нервно теребили край стола.
Альберт слушал. Не перебивая. Он сидел совершенно неподвижно, только его глаза за стеклами временами сужались, будто фиксируя нестыковки. Он не выражал ни ужаса, ни недоверия. Он был подобен сканеру, впитывающему сырые данные.
Когда Владимир замолк, иссякнув, в комнате повисла тягостная пауза. Альберт снял очки, тщательно протер их шелковым платком и водрузил обратно.
– Интересно, – начал он, и его голос прозвучал так, будто он комментировал новую научную статью по физиологии. – Оставим пока в стороне этическую составляющую твоего… опыта. Сосредоточимся на фактах. Ты манипулировал неизвестными силами, используя собственную психику как проводник и инструмент. Ты получил результат, который интерпретировал как успешную визуализацию некоей эссенции. Далее последовал системный сбой.
– Сбой? – переспросил Владимир, в голосе которого звучала почти мольба. – Альберт, это был не сбой! Это был… голос. Ответ!
– Возможно, – Альберт слегка наклонил голову. – Но чей? Ты исходишь из гипотезы о внешнем разуме. Демоне, духе. Более простая, а потому и более вероятная гипотеза – внутренний. Твое подсознание, Владимир.
– Мое подсознание засмеялось на непонятном языке и написало слово «Прости» моим почерком, но не моей рукой? – в голосе Владимира зазвенела истерика.
– Именно так, – холодно парировал Альберт. – Ты, как поэт, привык оперировать символами. Ты годами взращивал в себе «холодную кровь», подавляя то, что считал слабостью – ту самую человеческую жалость, раскаяние. Твой эксперимент – апофеоз этого подавления. Ты не просто убил птицу. Ты совершил акт предельного насилия над тем, что, возможно, и есть душа. Твое подсознание, тот самый вытесненный тобой пласт, не выдержал. Оно дало о себе знать самым простым и доходчивым способом. Оно использовало твой же язык, твой же почерк. Слово «Прости» – это не мистическое послание. Это крик твоей собственной, затоптанной тобой природы. А смех… Смех – это часто маска ужаса. Или ирония. Ирония твоего же «я» над твоим же высокомерием.
Владимир слушал, и его ужас медленно начинал приобретать новую, еще более жуткую форму. Альберт не предлагал ему спасения от демонов. Он предлагал ему встретиться с самим собой. С темным, вытесненным двойником, который жил в нем и который теперь, похоже, обрел голос.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.