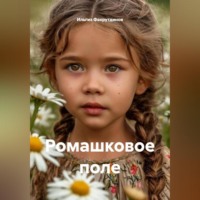Полная версия
Полынья

Ильгиз Фахрутдинов
Полынья
Отпуск. Решил начать повесть.
Буду писать сюда помаленьку, выкладывать по готовности.
О чём? Да о своих корнях.
Чем старше становлюсь, тем больше начинаю задумываться
о том, как жили, о чем думали, что любили мои предки.
И как будет, когда я сам стану таким предком.
…Он был человеком-проседью. В его душе смешались городская пыль и деревенская пыльца, и получился неопределенный, унылый оттенок. Тоска по простым и ясным чувствам жила в нем фантомной болью, как ноет старая рана при смене погоды. Он ловил себя на том, что в шуме городской жизни, в гулкой сутолоке офисных центров, его слух бессознательно выискивал тишину – ту самую, густую, наполненную лишь шелестом листьев и отдаленным криком петуха.
Работа, когда-то казавшаяся трамплином в будущее, обернулась клеткой с позолоченными прутьями. Он был не более чем функцией, винтиком, чья поломка прошла тихо и незаметно, как опадает пожелтевший лист. Увольнение не стало трагедией; оно стало освобождением в пустоту. И эта пустота с нарастающим гулом звала его назад – в Рыбное, к дому, который был последним якорем, цеплявшимся за дно его расплывающейся жизни.
Он приехал с двумя мыслями, враждебными друг другу. Одна, громкая и прагматичная, твердила: «Продать. Развязаться. Начать с чистого листа». Другая, тихая и стыдливая, шептала: «Остаться. Найти. Вспомнить». Он и сам не знал, кого больше в нем было – расчетливого горожанина, срезающего балласт, или того мальчишки с разбитыми коленками, для которого мир умещался между рекой и бабушкиным огородом.
И теперь, глядя на заброшенный дом, он понимал, что это не просто бревна и кровля. Это был слепок его собственной души – покинутый, с заколоченными окнами, сквозь которые едва пробивался свет былого тепла. Продать его значило не просто избавиться от собственности. Это значило поставить точку в той главе своей жизни, где он был по-настоящему счастлив. И он замер на пороге, не в силах сделать ни шаг вперед, ни повернуться назад, – идеальное воплощение потерянности, застигнутое в момент своего самого ясного и горького проявления.
Пролог. Проседь
Бывают в январе такие дни, когда время замирает. Белое небо прилегает к белой земле, и весь мир сжимается до хрустальной сферы, застывшей в ледяном дыхании зимы. Воздух густ и звонок, он обжигает легкие не холодом, а самой своей острой, безмолвной чистотой. В такие дни кажется, что можно услышать, как растет иней на ветвях покинутых берез, а тишина обретает вес и давит на плечи, как тяжелая, хоть и невидимая, шуба.
Именно в такой день Халим вернулся в Рыбное.
Дорога в деревню была похожа на путь в забвение. Колеи, заплывшие снегом, вели в никуда. А потом и вовсе кончились, уступив место сугробам, накатанным лишь лыжней да заячьими следами. Деревня стояла перед ним, как призрак, вырезанный из бумаги и инея. Деревенские дома, некогда крепкие, теперь клонились к земле, будто устали бороться с тяжестью лет и снежных шапок. Окна, словно слепые глаза, были затянуты мутной льдистой пленкой, а иные и вовсе зияли чернотой, подобной провалам в памяти.
Его дом – дом его бабушки и дедушки – встретил его неласково. Резные наличники, в которых когда-то жила душа мастера, почернели и осыпались, уподобившись сгнившим кружевам. Конек крыши просел, будто спина уставшего великана. Снег лежал на крыльце нетронутым, девственным саваном. Это был не просто заброшенный дом. Это была скорлупа, из которой давно ушла жизнь, оставив лишь тонкий, едва уловимый запах печного дыма, который чудился на морозе, – призрачное, душевное эхо былого тепла.
Он не зашел внутрь. Не смог. Вместо этого его, как магнит, потянуло на погост, что на отшибе, под кронами спящих берез. Кресты и стелы стояли в снегу, как молчаливая стража ушедших эпох. Он нашел их – два ухоженных холмика, будто островки любви в этом застывшем море забвения. Хамдиниса. Гиматдин. Даты жизни говорили о целом веке, но на черно-белых снимках они смотрели на него любимыми, хоть и старыми лицами.
Халим опустился на колени. Горячее дыхание превращалось в облачко, цепляясь за холодный металл. Он разгреб снег, взял в ладони мерзлую землю и положил по горсти на каждый холм. Комья стучали по промерзшей снежной корке с глухим, безнадежным шорохом. Щемящая тоска, острая и колючая, как лед, сжала его горло.
«Простите, что так редко», – прошептал он, и слова затерялись в январской тишине.
И тогда, закрыв глаза, он увидел не это. Он увидел ласковую улыбку бабушки, согревавшую как печка, и почувствовал запах дедушкиных рук – терпкое, живое амбре древесины и дыма. Это прошлое жило где-то здесь, под снегом, под льдом, под слоями времени. Оно было так близко, что можно было коснуться его рукой. Но стоило протянуть пальцы, как от прикосновения оно рассыпалось ледяной крошкой, оставляя в ладони лишь пронзительную, горькую нежность и тишину, в которой слышалось лишь биение его собственного, потерянного сердца.
Сцена 2: Тайна воды
После кладбища Халим бродил по опустевшим рыбновским улицам, и каждая тропка будила в нем эхо. Он шел, почти не глядя под ноги, доверяясь памяти ног, которая оказалась крепче памяти разума. Вот здесь, на развилке, где теперь скривился ржавый указатель с едва читаемым словом «Рыбное», он с мальчишками гонял мяч. А на этом пригорке, где ветер гонял по снегу перекати-поле, стояла кузница, и весь день слышался веселый звон молота.
Он вышел к озеру. Оно лежало перед ним, как огромное плоское стекло, вправленное в оправу березового редколесья и побуревшей осоки. Белый простор был безмолвен и пуст. Лишь у северного берега, там, где в его времени стояла почерневшая от времени, но все еще действующая машинно-тракторная мастерская, сгущалась тень, отбрасываемая ее низкой крышей. А взгляд, скользнув на восток, натыкался на ряд покосившихся изб – ту самую улицу с неожиданным названием «Китай», возникшим бог весть почему и закрепившимся на десятилетия, не видевшую ни одного китайского лица.
Но его манило не это. Ноги сами понесли его по знакомому, утоптанному в далекой юности маршруту, вдоль берега, к старой, полуистлевшей коряге. Здесь, неподалеку, дед всегда ставил сети на карася. А в детстве маленький Халим, затаив дыхание, наблюдал, как у самого берега, на отмели, крутились стайки гольянов – юрких, серебристых, будто живая ртуть. Их тогда, шутя, ловили чуть ли не наволочкой, и дед, смеясь, говорил, что на уху хватит.
И вот он увидел ее. Полынью.
Она была именно там, где когда-то ставил свою сеть дед Гиматдин. Небольшой разрыв в ледяном панцире, окаймленный припорошенным снегом бисером намерзшего льда. Вода в ней была черной, густой, как чернила. Халим медленно опустился на корточки, завороженный этой темнотой. Он ожидал увидеть свое отражение, искаженное рябью, но вместо этого…
Вода странно мерцала. Она не отражала свинцовое январьское небо и хмурые берега. В ее пульсирующей глубине плясали блики, похожие на солнечные зайчики, и чудилась зеленая, подводная трава. Пахло не льдом и морозом, а тиной, нагретой солнцем, и свежим ветром. Словно окно. Окно в другое время, в другую реальность, где было лето.
Сердце Халима заколотилось в груди, как птица в клетке. Он потянулся к этому свету, к этому теплу, инстинктивно, как мотылек на огонь. Наклонился ниже, пытаясь разглядеть в мерцающей глубине хоть что-то – берег, лодку, знакомый силуэт.
Но подошвы его ботинок скользнули по обледеневшему краю. Он почувствовал страшную, неумолимую пустоту под собой, короткий взмах руками, не способный ничего изменить – и обрушился в черную, ледяную воду.
Ледяной шок парализовал тело, выгнал из легких воздух одним коротким, обжигающим горло криком. Но последнее, что он увидел перед тем, как сознание поглотила тьма, был не мрак ледяной могилы, а ослепительный, всепоглощающий, летний свет.
Сцена 3
Сознание вернулось к Халиму волной кашля, выплескивающей из легких ледяную воду. Но странно… вода была не ледяной. Она была прохладной, почти теплой. Он судорожно хватал ртом воздух, и в легкие врывался не колючий январь, а густой, пьянящий букет запахов: мокрой земли, цветущего иван-чая и свежеспиленного дерева.
Он лежал на мокром песке у кромки воды. Ладонями вдавливал в землю не снег, а упругую, сочную траву. Он открыл глаза и зажмурился от ослепительного света. Над ним было не белое, низкое небо, а бездонная синева, в которой плыло жаркое, почти зенитное солнце.
Озеро… Оно было не знакомым плоским льдином, а живым, дышащим. Вода лениво накатывала на берег, и в ее прозрачной ряби играли солнечные блики. А там, где в его времени стояла почерневшая мастерская, зеленел луг, и паслась пегая лошадь.
Деревня… Он медленно, с невероятным усилием повернул голову. Дома стояли ровно и крепко, будто только вчера срублены. Резные наличники на окнах были свежевыкрашены в голубой цвет, с них еще не облупилась краска. И пахло… пахло жизнью. Смолой, древесной стружкой, дымком из печных труб.
Где он? Что случилось? Это галлюцинация? Предсмертный бред?
– Эй, земляк! Ты чего, утоп чуть-чуть?
Голос был молодым, звонким, полным искреннего беспокойства. Халим заставил себя поднять взгляд.
К нему бежал парень. Лет двадцати, в простой холщовой рубахе, расстегнутой на мощной груди. Лицо открытое, загорелое, с ясными синими глазами и широкой, до боли родной улыбкой. Эта улыбка… эти глаза… Халим узнал их на тысячах пожелтевших фотографий. Но видеть их живыми, не в плоском бумажном слепке, а в объеме, в движении… От этого перехватило дыхание куда сильнее, чем от воды.
Это был его дед. Гиматдин. Но не седой старик с морщинистыми руками, а молодой, полный неукротимой силы и энергии Гима.
Парень присел на корточки, с легкой усмешкой оглядев Халима с головы до ног.
– Как тебя угораздило-то? Вода теплая, вроде… – Он протянул руку – сильную, с узловатыми пальцами, привыкшими к труду.
Халим, все еще не веря, машинально ухватился за нее. Рука была живой, горячей, реальной.
– Я… – голос Халима сорвался в хрип. – Я не утонул?
– Да вроде нет, – Гима весело подмигнул, с легкостью поднимая его на ноги, будто того и веса-то не было. – Похоже, просто испугался. Хлебнул малость. Ты откуда будешь? Не здешний, одежа какая-то… диковинная.
Халим стоял, пошатываясь, его мокрая городская куртка казалась тут абсолютно инопланетным артефактом. Мозг лихорадочно искал хоть какую-то зацепку.
– Я… геолог, – первое, что пришло в голову, вырвалось наружу. – Заблудился. В экспедиции.
Гима поднял брови, с нескрываемым любопытством разглядывая незнакомца.
– Геолог? – переспросил он, и в его глазах вспыхнул азарт. – Это который что, камни ищет? А золото? – И он рассмеялся – звонко, заразительно, точно так же, как смеялся потом, катая маленького Халима на санках с горки. Этот смех обжег Халима изнутри щемящей, невыносимой нежностью.
– Золото – нет, – Халим с трудом выдавил улыбку, чувствуя себя полным самозванцем. – В основном… глину.
– Глину? – Гима фыркнул, но без злобы, а с добродушным недоумением. – Ну, у нас ее, браток, на каждом шагу! Зачем блудить-то? Ладно, пойдем к нам, просохнешь. А то стоишь, как овца под дождем. Диня, наверно, щей сварила.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.