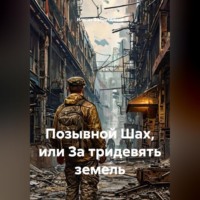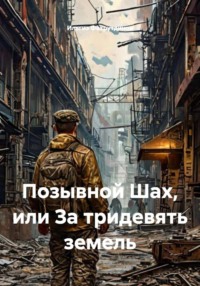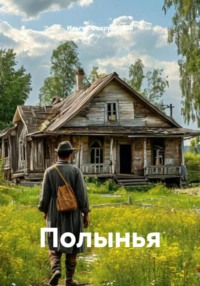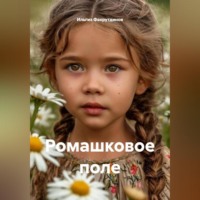Полная версия
Ромашковое поле

Ильгиз Фахрутдинов
Ромашковое поле
Пролог. Клубок
Жара стояла такая, что воздух над крышами низких деревенских домов колыхался, словно прозрачный полог. Июль 2025-го года был щедр на солнце. Валия Акрамовна, невысокая, худенькая, словно склеенная из птичьих косточек, сидела на скамейке у своего дома. На коленях у нее лежал мягкий, пушистый клубок шерсти цвета спелой вишни.
Пальцы, изрезанные глубокими морщинами, похожими на старые карты, двигались легко и привычно. Спицы пощелкивали, рождая ровную, плотную вязку. Она вязала носки внучке в Волгоград. Зять говорил, там бывают холодные зимы.
Шерсть была мягкой, послушной, дорогой. Купленной в магазине в райцентре – Целинном. Валия Акрамовна закрыла глаза, и пальцы сами вспомнили другую пряжу. Жесткую, колючую, из старых, распущенных бабушкиных варежек и носков. Ту, что приходилось сматывать в клубок долгими зимними вечерами при свете коптилки. Тот клубок вечно цеплялся, путался, был похож на ее тогдашнюю жизнь – клубок из голода, холода и обид.
Она провела ладонью по гладкой нити. Как все изменилось. Та, старая, колючая пряжа была похожа на ее детство: неудобное, царапающееся, собранное из обносков. А эта… эта была похожа на ее старость. Теплая, ровная, предсказуемая. И то, и другое было ее жизнью. Одну распустили, из другой она вязала новое.
Из телефонной трубки, поставленной на режим громкой связи и лежащей рядом на скамейке, доносился голос дочери.
– Мам, ты не представляешь, какая тут у нас духота! Пятьдесят градусов! Как ты там?
– Я-то хорошо, – тихо ответила Валия Акрамовна, глядя на свое ромашковое поле у калитки. – А у нас сегодня роса была. Прохладно. И ромашки распустились.
Она не сказала дочери, что эти ромашки для нее – как страницы дневника. Глядя на их белые венчики и солнечные сердца, она перелистывала всю свою жизнь. Самую трудную и самую счастливую книгу, которую ей довелось прочесть.
– Ладно, мам, бегу, Саша зовёт. Целую крепко-крепко!
– Иди, иди, родная.
Связь прервалась. Валия Акрамовна отложила вязку и пошла в дом. Подошла там к красивому кованому почтовому ящику, который ей смастерил сын-сварщик. Достала пачку писем. Одни – от дочери, распечатанные на принтере, но всегда с парой строчек, написанных от руки внучкой. Другие – от сыновей, с фотографиями.
…Она хранила их все: длинные, напечатанные письма от дочери из Ставрополья, смайлики и рисунки внучки на полях; короткие, деловые весточки от сыновей; и аккуратные, с округлым почерком конверты от младшего брата, Сабира, который, как и она, остался в Курганской области, но в другом районе. «Сабир-бай», – с теплой улыбкой думала она, вспоминая, каким худым и вечно голодным мальчишкой он был.
Она села за старый кухонный стол, пахнущий хлебом и сушеным зверобоем, и потянулась к самому толстому конверту. От дочери, из Ставрополья. Внутри, среди распечатанных листов, лежала засушенная ромашка. Не полевая, а садовая, крупная. Дочь писала: «Мама, это с нашей дачи. Выросла прямо среди петуний, сама. Наверное, твоего поля ягода».
Валия Акрамовна улыбнулась. Дочь шутила, а в шутке этой была глубокая правда. Ее поле, поле ее жизни, давало всходы по России. В Ставрополье, на Южном Урале…
Она взяла ромашку, положила ее на ладонь. Она была хрупкой, почти невесомой. Как когда-то в далеком детстве, которое осталось там, в пятидесятых, в другой жизни. В жизни с земляным полом.
Она закрыла глаза, и ее пальцы, помнившие и колючую пряжу, и мягкую, снова обрели память о другом прикосновении. О холодной, утоптанной земле, по которой она ползала маленькой девочкой. Память поползла вверх, по рукам, к сердцу. Темное, густое варево из запахов – дыма, кислого молока, полыни и вечного, непроходящего голода.
Она не морщилась. Она дышала этим воспоминанием, как дышат воздухом родного дома. Потому что знала: именно там, в той тьме, и родился ее первый, самый главный свет.
Глава 1. Земляной пол
Память – странная штука. Она не хранит дней. Она хранит ощущения. Самым первым и самым устойчивым ощущением детства для Валии был холод. Не зимний, не свежий, а промозглый, въевшийся костный холод земляного пола в их хатке-землянке.
Он поднимался от утоптанной, почти каменной земли и заполнял все пространство до самого закопченного потолка. Он забирался под рваную дерюгу, которой она укрывалась, и заставлял ее маленькое тельце сжиматься в комок, пытаясь сохранить скудное собственное тепло. Ночи были самым страшным временем. Темнота за окном была живой и густой, а темнота в избе – слепой и пустой. Она лежала на лежанке рядом с матерью, прижавшись к ее костлявой спине, и пыталась украсть каплю тепла. Но мама всегда спала глубоким, мертвым сном – сном усталости, накопленной за день на ферме, в поле, у печи.
И тогда Валия начинала тихо плакать. Не от голода – голод был привычен, как собственное дыхание. От холода и одиночества.
– Ним , бала, шау-шыу уптарахын ? (ты чего, дитятко, шумишь?) – раздавался в темноте тихий, дребезжащий голос. Это была бабушка Камиля. Она лежала на другой стороне лежанки, и Валия думала, что она не спит никогда.
Бабушка шевелилась, и Валия слышала, как скрипят доски лежанки под ее босыми ногами. Потом в темноте возникал тусклый свет коптилки – бабушка раздувала угли в печи и поджигала фитиль, вмурованный в глиняную плошку с салом. Свет был жирным и прыгающим, от него по стенам танцевали огромные, уродливые тени.
– Иди ко мне, зяблик мой, – говорила бабушка.
…Валия соскальзывала с лежанки и бежала к ней по ледяной земле. На другой стороне печки, под боком у матери, шевельнулся и ее младший братик, Сабир, ему было всего три. Он не плакал, просто смотрел на бабушку широкими, темными глазами, полными такого же немого вопроса. Бабушка садилась на корточки, зажимала в своих сухих, шершавых, как кора, руках ее окоченевшие ступни, а другой рукой гладила спутанные волосы Сабира.
– Ничего, мои птенчики, ничего, – шептала она. – Земля-матушка спит, и мы с вами должны спать.
Потом она брала с пола у печки тот самый колючий клубок, старую распущенную пряжу. Она не вязала. Она просто перебирала ее, как чётки, сматывала и распускала снова, и тихо-тихо напевала. Голос у бабушки Камили был тихим и потрескавшимся, точно у нее в горле перекатывались сухие горошины. Он был похож на потрескавшуюся от зноя сухую глину, но в его шероховатости жила такая многовековая стойкость, что холод, казалось, отступал, услышав его. Она пела не на русском, а на своем, башкирском. Валия не понимала всех слов, но смысл был ясен. Это была песня о ветре в ковыле, о беге коня по степи, о далеком-далеком солнце, которое грело ее далеких предков.
Валия закрывала глаза и прижималась к бабушкиному старому, выцветшему халату. Он пах дымом, полынью и чем-то бесконечно древним. Она представляла, что голос бабушки – это теплая, невидимая нить. И бабушка обматывает ею ее, Валю, с ног до головы, словно плетет из звуков большое шерстяное одеяло, в котором можно укрыться с головой. И в этом коконе из звуков было безопасно.
Холод земляного пола – это не просто физическое ощущение. Валия помнит, как бабушка Камиля, чтобы утеплить их угол, стелила на пол самотканые половики, свитые из старой одежды и тряпок. «Вот этот лоскут – из моего свадебного платья, – говорила она, проводя по нему рукой. – А этот – из рубахи твоего деда. Он нас согревает». Ткачество было не ремеслом, а борьбой с холодом и забвением. Валия, засыпая, смотрела на эти пестрые полосы при свете коптилки, и они казались ей дорожкой из разноцветных островков в холодном море тьмы.
***
А за стенами этого кокона бушевала зима 1956 года. Валие было семь лет, и мир состоял из трех вещей: холода, голода и тихой, но постоянной обиды. Она помнила, как они с матерью и бабушкой пекли лепешки. Но это было не то пышное, душистое чудо, которое иногда выдавали в колхозе. Они терли на мелкой терке мерзлую картошку, смешивали ее с высушенной и перемолотой лебедой, добавляли щепотку соли и жарили на раскаленной печке без единой капли масла. Этот «хлеб» был жестким, горьким и оставлял во рту вкус тоски. Но он был едой. Он заполнял пустоту в животе, которая гудела, как шмель в пустой банке.
Однажды утром они обнаружили, что из подпола, прикрытого рваным половиком, кто-то украл их последний запас картошки – ведро, которое должно было помочь дотянуть до весны. Мама молча спустилась в погреб, поднялась и села на лавку, уставившись в одну точку. Она не плакала. Слез, казалось, не осталось. «Соседи», – только и выдохнула она. И Валия понимала: соседи, которые смотрели на них свысока, на эту семью без кормильца, без мужской руки. «Безотцовщина», – дразнили ее дети, когда она шла в школу. – «У вас даже хлеба настоящего нет!» И она, сжимая в кармане ту самую горькую лепешку, чувствовала, как жгучий стыд поднимается к ее глазам.
Но вечером, когда в избе сгущалась тьма и холод, мать, закончив свою бесконечную работу, подходила к ней, садилась на корточки и обнимала. Ее руки были шершавыми и холодными, но объятия – крепкими.
– Ничего, дочка, – шептала она, гладя Валю по волосам. – Ничего, переживем. Вот печка топится, видишь?
И Валия смотрела на огонь в печи. Язычки пламени лизали черные чугунные бока, отбрасывая на стены оранжевые блики. Они танцевали тот же танец, что и тени от коптилки, но этот танец был другим – сильным, горячим, живым.
И вот тогда, прижавшись к матери и слушая из темноты тихое, хриплое напевание бабушки Камили, Валия чувствовала странную вещь. Да, снаружи был голод, воровство и злые слова. Но здесь, внутри, было тепло. Тепло от печи, тепло от маминых рук, тепло от бабушкиного голоса, сплетающего свое невидимое одеяло.
Холод земляного пола все так же щипал босые ноги. Но он больше не был хозяином в этом доме. Хозяевами здесь были они три. И их тепло, хрупкое, как огонек коптилки, но неистребимое, как корень полыни, пробивающейся сквозь камни.
Утром она снова шла в школу, снова слышала обидные слова и сжимала в кармане горькую лепешку. Но внутри нее теперь тоже тлела искра. Та самая, что осталась от вчерашней печки, от маминого шепота и бабушкиной песни. Искра, которая не давала ей сломаться.
Глава 2. Отец-ветер и первая ромашка
Школа была для Валии не храмом знаний, а каменным мешком, где каждый день испытывали на прочность. Уроки были терпимы, а вот перемена – ежедневным судом. Дети – самый честный и самый безжалостный народ на свете. Они чуют слабость, как животные, и их инстинкт велит добить отбившегося от стаи.
«Валия-безпапы! Валия-безпапы!»
…«Валия-безпапы!» Эхо этих слов било не только по ней. Она видела, как сжимается в комок рядом идущий с ней из школы маленький Сабир, как он прячет глаза, и эта его беззащитность жгла ее сильнее собственного стыда. Ее отчуждение было физическим: когда делились на команды, она всегда оказывалась последней, а Сабира и вовсе не брали, он сидел на заборе один, болтая худенькими ногами.
Эти слова не были просто констатацией факта. Они были клеймом. Они означали, что за тебя некому заступиться. Что твоя семья – неполная, а значит, неполноценная. Они выстраивались в хоровод, тыкали в нее пальцами, а она стояла, опустив голову, сжимая в потных ладонях краюху того самого горького хлеба из лебеды. Ее отчуждение было физическим: когда делились на команды для игры в «чижика» или лапту, она всегда оказывалась последней, кого брали нехотя, с брезгливой усмешкой. Ее мир сузился до пространства между школьным порогом и домом, и на этом пути его преграждали чужие, враждебные взгляды.
Но самая острая, животная жестокость пришла не от сверстников, а от взрослого. Старый конюх-объездчик Фатых, охранявший колхозные гороховые поля, был местным пугалом для всех ребятишек. Но его жестокость была избирательной. Когда он с гиканьем и свистом набрасывался на мальчишек, воровавших сладкие стручки, он лишь махал кнутом для острастки. Но если он замечал Валию или еще пару таких же «безотцовщин», его лицо искажалось злобной усмешкой.
Однажды она, позабыв о страхе, потянулась к сочному, зеленому стручку. Голод был сильнее осторожности. Из-за спины раздался резкий свист, и по ее босым ногам больно, до крови, хлестнул кнутом.
– Ах ты, голодная ворона! – прохрипел Фатых. – Отца нет, чтобы уму-разуму научил? Я тебя научу!
Второй удар пришелся по спине. Жгучая боль и унижение заставили ее вскрикнуть. Она побежала, не разбирая дороги, а его хриплый смех и свист кнута преследовали ее. Он бил не столько по телу, сколько по ее уязвимости. Он знал, что пожаловаться некому. Мать, загруженная работой, лишь вздохнет и скажет: «Не ходи туда, дочка». Заступиться было некому.
Прибежав домой, она забилась в темный угол за печкой, давясь слезами от боли и стыда. Мать Алия, вернувшись с работы, сразу все поняла. Она не стала расспрашивать. Она подошла, села рядом на корточки, не касаясь ее, и тихо заговорила.
– Твоего отца, Валия, забрала война, – сказала она, глядя куда-то в пространство. – Он был сильным и смелым. Он не мог остаться просто в земле. Он стал ветром.
Валия перестала плакать, прислушиваясь.
– Он не может обнять тебя, как другие отцы, – продолжала мать. – Но он всегда с тобой. Чуешь? Он гладит твои волосы. Он шепчет тебе, что ты сильная. Он приносит тебе запах березового леса, чтобы ты не забывала, что в мире есть красота.
Это не было горькой фантазией отчаяния. В голосе Алии была такая несокрушимая уверенность, что Валия поверила. Это была не ложь, а форма высшей правды. Форма бесконечной связи и достоинства, которое никто не мог отнять.
С тех пор она стала выходить из дома и подставлять лицо ветру. Любому – ласковому летнему бризу или злому осеннему шквалу. Она закрывала глаза и слушала. И ей действительно чудилось, что в его порывах есть ласка, а в завываниях – ободрение. «Я здесь, – словно бы говорил ветер. – Я вижу все. Ты моя дочь, и ты выдержишь». Это был их разговор. Тайный, никому не принадлежащий. Это знание делало ее неуязвимой для насмешек. Они били в броню, которой у нее не было, но не могли добраться до самой ее сердцевины, до того места, где жил ее ветер-отец.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.