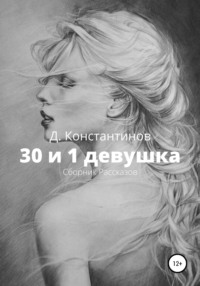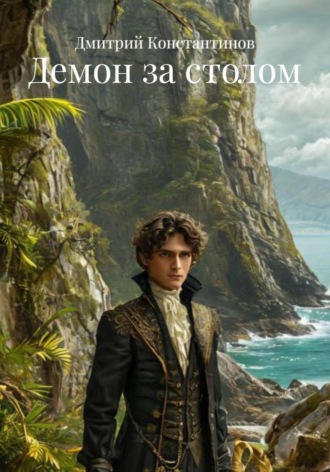
Полная версия
Демон за столом

Демон за столом
ВВЕДЕНИЕ.
Над Францией 1793 года стоит не просто время, – стоит какой-то неведомый климат души, который, как назойливый запах, просачивается в каждую щель, в каждую человеческую грудь. Это не то чтобы погода – это вовсе небо, но небо смущённое, смятенное и будто бы одержимое какой-то святой, по-видимому, очень жестокой идеей: мыслью о правде, о правде любой ценой. И вот – что из этого вышло: повсюду подозрение, поскорбность, крики, и каждый человек, как бы он ни старался быть только человеком, неизбежно стал чем-то иным – свидетелем, доносчиком, судом, жертвой и, что страшнее всего, – исполнителем своей собственной терзающей правды.
Если хотите представить себе Париж того года, то прежде всего представьте улицы: узкие, влажные, с камнем, который ещё хранит печать прошедших шагов – шагов королей, кардиналов, мещан, злодеев, святых и проституток. Но теперь на этих камнях лежит что-то иное: не просто грязь, не просто снег или дождь – некое общее дыхание толпы. Толпа шуршит, толпа говорит, толпа смотрит, и в её взгляде – нечто животное и одухотворённое одновременно; она тотчас же готова на pious-свирепость, на ритуал убийства во имя нового Евангелия.
Как ни странно, самым характерным явлением был не только палач с его холодной машиной (о, эта машина, о, гильотина! – да, машина, столь же строгая и безличная, как приговор), но и музыка голосов, сливающихся в одном безудержном хорале: возгласы «Liberté! Égalité! Fraternité!» – и за этими словами немедленно – голод, холод, и в ту же минуту – смертный приговор. Правда здесь была не догмой, а страстью. Человеческое слово, только что освобождённое от прежних цепей, превращалось в орудие: оно назидало, оно осуждало, и, что хуже, само себя оправдывало через насилие.
Свидетельства времени: дворцы опустели, но не в том смысле, что их стены молчат – они теперь отдают эхо, эхо криков тех, кто когда-то стоял у алтаря. Люди, которых раньше уважали или боялись, – теперь в публичном зачёркнуто: картотеки имен пополняются черной чертой; на углах улиц – комитеты, где молодые люди в бесстрастных лицах читают приговоры, где мужчины в плащах, резко отточенные, будто бы вырезанные, говорят о необходимости чистки нации; женщины, более не только украшение, но и активные участницы, с огненными глазами, шепчут, возбуждают, ловят слух на слухах, и в их речах слышны не ревность или зависть, а какая-то мстительная, почти религиозная ревность к Революции.
Именно эта религиозность – самое ужасное. Люди забыли Бога в прежнем смысле, но спустя время Бог вернулся под иным именем: имя это – Революция. И как верующему нужно покаяние, так и революционеру нужно было покаяние – товарище, признавайся, иначе ты – предатель. Улицы были заполнены святыми трибуналами; не было ни одного двора, где бы не обсуждали добро и зло в тоне, где смешались безумие и проста. Как же могло быть иначе, если с утра до вечера на площадях совершались жертвоприношения – не столь жуткие по форме, сколько по духу: за каждой казнью следовало настроение очищения, и люди, выходя на закат, обсуждали событие как проповедь.
Ах, читатель, разве ты представляешь себе страх, который врывается в самые тонкие перепонки сознания? Он не похож на страх перед внешним врагом; он сродни нравственному угрызению. Люди, переставшие верить в стабильность закона, были как те младенцы, что внезапно осознали собственную смертность и оттого начали плакать всё сильней. Каждый дом – это тайник, каждый знакомый – потенциальный свидетель, а каждый смех – предлог для доноса. Душа человеческая стала помещением, которое более не принадлежит своему хозяину: она подлежит ревизии.
Во Франции 1793 года – всё было сжато, все явления приобрели остроту скальпеля. Экономика – в разладе; поля – покинуты; война – на порогах. Вестящие бедствий посланцы с фронтов приходили в Париж и приносили с собой язык новых бессердечных чисел: потери, хвори, отступления. Казалось, что мир снаружи и мир внутри совпадают в одной общей меланхолии: война со всем миром и война с самим собой. И что ещё ужасней – оба ведут к одной и той же формуле: уничтожение ради спасения.
Вы спросите, как жили те, кого нельзя было назвать ни просветителями, ни демонами? Были, конечно, люди, которые пытались оставаться людьми. В простых домах, на краю больших площадей, где не доносили, где пили кофе без обсуждения политики, жили старые горожане, у которых голос дрожал от невыразимой усталости. Они выглядели так, словно были свидетелями давно умершего мира, не желая принять того нового, который наступал: их глаза – молчаливые, полные воспоминаний – говорили о других временах, о доме, о детях, о какой-то более обычной боли. Но и их глаза не всегда были прощены: «Почему ты не в клубе?» – спрашивали их сыны, – «Почему не кричишь?» Ответ человеку старому казался невозможным, ибо он не мог стать фанатиком ради принципа, он не мог принести свою душу в жертву абстрактному.
Были и те, кто поддался не столько идее, сколько страху: они шли, они подписывали, они растерзали друзьям холсты тех воспоминаний, которые их связывали с прежней жизнью. Но были и другие, маленькие, почти незаметные духи сопротивления: женщины с нежными руками, что тайно пришли к старому священнику, мальчики, прятавшие за пазухой старую иконку, старые солдаты, отступившие от трибунала, приютившие на ночь изгнанца. В их поступках была слабая, но несгораемая надежда, что человечность возможно сохранится в тех крохотных местах, где не ступала нога громкого слова.
И всё же самое страшное явление – это не гильотина, не кровь и не шум толпы: это вера в то, что преступление может быть оправдано добром. Как это «добро» определяли – вот здесь и поджидал кошмар. Слышали ли вы такое: «Смерть ради свободы – это спасение»? Да, люди действительно говорили это. Они могли улыбаться, говоря о казни; их глаза сверкали, как у людей, убедившихся, что цену платить надо. Парадокс заключается в том, что когти нравственности стали разрушительным орудием: за чистоту идеи шли на самые низкие, самые постыдные поступки.
Если теперь перейти к окраинам – Vendée, Lyon – там, где восстания, – то открывается ещё более дикая картина: гражданская ненависть, как старая, гнилая ракета, разрывает тела и души. Люди, что ещё недавно брались за руки в работах и на паях, теперь возводят друг против друга статуи обвинений. Каждый район – это маленький суд, каждая деревня – новое поле брани, где наводилось разделение даже между братьями. И если думать о том, как будут помнить потоминцы о 1793 – то запомнят они запах крови и горькую мудрость: свобода, если не охраняется милосердием, скоро превратится в тиранство тех, кто её проповедует.
Но позволю себе однажды отойти от общей картины и представить личность, ибо в чём бы ни состояла история – в ней всегда куча человеческих трагедий, каждая из которых тянет за собой тысячу рассказов. Вот, скажем, молодой адвокат, родившийся в доме, где отец его, унтер-офицер, с детства учил его чтению и не чтению, а честности. Он шел в клуб, он верил в справедливость, и ему казалось, что он сделал выбор на стороне правды. Но чем дальше он шел, тем сильней становился у него голос в груди: «Где твоя совесть, сын?» И в ту минуту он вдруг ощутил, что правда, которой он служил, нередко нуждается в том, чтобы умирать. Он стал приходить домой поздно, и в зеркало видел своего отца в себе: и глаза его отца – страдали и умоляли. Что мог он сделать? Вы зна ете ответ: он писал безумные письма, пытался заткнуть уши – но в душе его, как в металлическом сосуде, что нагревается, кипела отрава, и тогда он один раз написал, кого-то сдал – и от этого его внутри что-то умерло. Так и гибнут идеалисты: не в бою, не в результате внешнего врага, – а от болезни совести.
Да, можно ещё долго описывать: как ночь опускается на Сену, и как туман прячет новые лики стражей, как в маленьких квартирах женщины шепчут молитвы, которые уже забыли; как дети, которым ещё не объяснили, что такое Революция, боятся ночью закрыть глаз. Но лучше всего заметить самое главное: Франция 1793-го – это зеркало, в которое человечество гляделось и увидело себя и убедилось, что у него не одна, а много лиц; что освобождение возможно, но цена за него такова, что порой невольно скажешь: не стоит ли лучше было медленно умирать от несправедливости, чем жить быстро и масштабно в порыве всеобщего права?
Может быть, вы, читатель, думаете, что я преувеличиваю? Что я, по старой российской привычке, изображаю чужую драму как свою? Нет. Разница между нами, русскими, и ими, французами, – в деталях, не в сути. В сути – люди те же самые: стехника и сердце, смех и слёзы. А когда дело доходит до религии идей – и мы, и они падаем в одну яму. Ибо наивно полагать, что светская истина не требует жертв; она требует их, и часто быстрее, чем сама первоначальная истина успевает родиться.
Подведу короткий итог – хотя, впрочем, у истории итогов нет. Франция 1793 – это год великого возрождения, но в его натиске слышится звук батальона палачей. Это год, когда человек думал, что делает мир лучше, и тем самым делал его страшней. Это год, когда слова о свободе и равенстве звучали как песни, а под ними, как неумолимый ритм, работала машина закона и смерти. И, наконец, это год, который учит нас одной жестокой истине: если идеал не обладает милосердием, то он неизбежно превращается в новый деспотизм, и в этом – всё горе человеческое.
Смотри же в это зеркало, читатель, и помни: подобные времена возвращаются не только в истории. Они входят в сердца людей, и если мы не будем бдительны, то сами, не замечая, посеем их в собственной земле.
Мировая обстановка 1793 года – это не просто география держав и линия фронтов на карте; это как бы некое общее, избирательно болезненное настроение планеты, которое тянет за собой и моря, и города, и отдельные человеческие сердца. Представьте себе некую громадную комнату, где все желают дышать, но каждый дышит в своё окно; где стены содрогаются от сумятицы, от шагов людей, которые то и дело входят, кричат, уходят и оставляют после себя запахи страха, выгоды и надежды. Вот она – Европа, весь мир – и везде слышна одна и та же нота: тревога. Тревога не тех, кто спокойно расходует жизнь и принимает порядок, а тех, кого потревожили идеи – новые, молниеносные, требующие немедленного взрыва.
Вся Европа, видите ли, наблюдает и делает шаги. Монархии, привязанные к старым соглашениям и родовым страхам, не молчат; они шепчут друг другу на ухо, а кто посмелее – идёт к оружию. Возникает коалиция – не мирный совет, не обсуждение, а военное содружество страху и интересу. Австрия и Пруссия, Англия – все они чувствуют: если революция пройдет, как ураган через сад, то завтра она может дуть и в их садах. Они собирают полки, пересчитывают дукатов, проводят границами, и в их головах – расчёт и будто бы некая робость, как у отца, который видит, как сын входит в тюрьму и не знает, стоит ли удерживать его или позволить ему самому пройти этот путь. Всё это происходит не без корысти: кто-то считает, что старый порядок можно восстановить посредством силы, кто-то – тихо надеется на выгодную часть добычи; но все – в одинаковом страхе.
Но богатый мир не замыкается в Европе. Восток глядит с иных сторон. Россия, под властью Екатерины, ведёт себя как женщина, которая долго терпела, но теперь без промедления берёт себе то, что считает нужным: политические интересы, расширение влияния, и, быть может, то грубое оправдание, которое всегда даёт любой короне – порядок и безопасность. В 1793 году Польша – бедная, измученная старинными узами – подвергается ещё одному разделу; два великих брата, Россия и Пруссия, находят в этой разделённой земле нечто, что можно поделить без большой чести, но с большой выгодой. И как же не вспомнить о судьбах простых людей? Их имена в этих документах не стоят; они – как трава, которую скашивают серпами истории. Польский народ, томимый и униженный, делает свой трагический шаг в сторону угнетения; он смотрит на мир и не видит там сострадания, видит лишь холодные руки, которые считают территории и говорят о целях государственной важности, не зная боли матери, похоронившей сына.
А что же Америка? Молодая республика, едва окрепшая от собственной битвы за независимость, смотрит на европейскую бурю с растерянностью и тревогой. В Соединённых Штатах уже делятся мнения: кто-то склоняется к Франции, видя в ней сестру по свободе; кто-то – к осмотрительности, к торговле и безопасности. Президент Вашингтон провозгласит нейтралитет, и это решение, как мне кажется, подобно бессмертному вздоху мудрости: молодой стране не стоит ввязываться в чужие распри, когда её собственные сосуды ещё не зажили после ран. Но и здесь – в американских городах, в портовых суматохах – ощущается подпольный жар: торговцы, мещане, фермеры – все они чувствуют изменение мирового климата и считают, как лучше вложить свои капиталы, как перевезти зерно, как спрятать золото.
Колониальные владения тоже не молчат. В далёких землях, где насаждали продукцию для прибылей европейских метрополий, вспыхивают восстания, зовут свободу или, по крайней мере, другой порядок. О, Сан-Доминго! Там грядёт нечто, что какой-нибудь историк в будущем назовёт великим потрясением: рабы восстают, и земля, привыкшая приносить сахар и кровь в корзинах европейских баронов, начинает сама требовать перемен. Восстание на острове, где люди поднялись против рабства, где угнетённые борются за жизнь и достоинство – всё это отзывается эхом в метрополиях. Колонии дрожат, губернаторы кусают губы, отсылая депеша и требуя войск. Для европейских держав это – сокрушительный вызов: им придётся либо реформировать систему, либо держать её в железных ланцюгах насилия.
Торговля и деньги, – ах, как это часто бывает, – правят миром, и они же проклинают его. Каждый порт, каждый купец чувствует: войны ломают связи, пошлины растут, страх перед морем становится врагом прибыли. Англия, чей флот был и остаётся её славой, пытается сохранять преимущество, но и там не всё спокойно: внутри страны растёт напряжение политическое, ведь на плечи власти ложатся и обязательства перед купцами, и предостережения моралистов. Те же политики, которые в зале парламента говорят о долге и чести, дома считают, сколько им принесёт контрабанда и сколько потеряет винокурня.
И вот – ещё один слой: люди, одинокие, странники, иногда не представляющие политической структуры, но ощущающие её на себе. Представьте гуся в поле, которому теперь некуда лететь – потому что границы закрыты, потому что мужики отобрали зерно под налоги, потому что солдаты идут по дорогам. Представьте эмигрантов – а их тысячи: дворяне и бедные, интеллигенты и купцы, которые покинули родные места. Их глаза – подобны глазам птиц в клетке: тут есть и покой прежних дней, и безнадёжная тоска. Они шепчут в ночи истории о прежнем величии, о потерянных коронах и о дочерях, забытых в домах. И в этих шепотах – голоса, которые могли бы стать добрым началом, но сейчас лишь каплю в океане плача.
Не могу обойти и религиозную сторону: давним приверженцам веры кажется, что мир потерял направление. В одном крае – шаманы новой гражданской религии, где вместо молитв – прокламации, где на алтарь всё чаще ставят абстрактные понятия; в другом – старые священники, которые пытаются сохранить обряды и обречены, возможно, на изгнание. Но где-то, посередине, люди молятся втайне; и иногда наивное дитя приносит цветы к старой иконе, а в этом поступке – не меньшая героичность, чем в громких речах депутатов.
Словом, мир 1793 года – это не только война государств, но и гражданская война душ. Ибо революции не остаются внутри своих границ; они становятся заразными, как пожар, и переносятся ветром идей и бедствий. Люди в Азии, Африке, обоих Америках слышат о Франции и думают: «А не придёт ли это к нам?» Где-то ответом становится подавление, где-то – надежда. Где-то – тихий расчёт: воспользоваться всеобщим замешательством и вырвать себе кусок, который прежде был чужим. И везде – одна и та же человеческая дилемма: что важней – порядок или свобода, жизнь без муки, пусть и под гнётом, или правда, требующая жертв?
И читатель, – да, вы, который слушаете теперь этот рассказ, – помните: в такие времена каждый выбирает не только политическую позицию, но и образ жизни и, что серьёзней, образ души. Кто-то станет палачом идей, кто-то – их жертвой; кто-то сохранит человечность в себе и станет тем маленьким очагом, где выживет тепло, и эти люди – самые редкие, потому что в бурю жить по-старому трудно. Но именно они, может быть, и будут будущим, потому что в мире, уставшем от страстей, остаются те, кто помнит о милосердии, о совести и о жалости – и это сильнее любых деклараций.
Такова в общих чертах мировая картина 1793 года: великую игру ведут державы, а внизу – люди, и они все в смятении душ; великие слова звучат, и под ними – кровь, и над ними – туман неизвестности. И как часто бывает, история в такие моменты напоминает о вечном: о том, что каждая победа даётся ценой, каждый лозунг таит в себе искушение, и что истинное спасение народа возможно лишь тогда, когда к нему прикоснётся и сердце, а не только закон.
Но, что, если я вам скажу, что все вышеупомянутые события не обошлись без участия высших сил… Нет, дорогой читатель, не богов, и даже не масонов, как привычно думать, что они управляют нами. Речь далее пойдет совсем о другом.
ГЛАВА 1. ПРОПАЖА.
В те неловкие, тяжёлые часы, о которых позднее люди говорили только шёпотом (и часто говорили так, как будто не о делах человеческих, а об очищении душ – будто бы эту ночь сама судьба поставила на проклятый стол всех, кто приходил в нее с очередными тайнами), в одной из парижских квартир, скромных по фасаду, но странно наполненных напряжением и запахом чужих дел, разыгралась сцена, которую и сейчас трудно описать сухим словом «драма». Это было не обычное происшествие; это была сцена, где человеческая горсть вдруг ощутила, что держит в руке и жизнь, и тайну, и страх, и право судить; где каждое движение, каждое слово было тягостно, как молитва, и в то же время исповедально – как признание греха.
Они сидели – или лучше сказать лежали притиснутыми к одной реальности – мать и сын; Сара де Рише и Луи де Рише, двое, у которых была одна судьба, пристёгнуты спинами друг к другу железом наручников, так что металл этот – простой, холодный металл – словно бы олицетворял ту жесткую, неумолимую необходимость, которая в жизни бывает сильнее любви. Посмотрите: металл здесь – не случайность; он образ судьи, и в его тяжести слышится голос малодушия мира, называющий всё «порядком». И над ними, почти с высоты, как хищник, кружил Барон фон Крюгер, человек с лицом, на котором отражалась и привычка к власти, и некая профессиональная усталость – усталость человека, много видевшего, но не много понимающего.
– Последний раз спрашиваю по-хорошему, – говорил он, и его голос (о, как часто голос этикета и спокойных привычек бывает холоднее тысячи нетерпеливых криков) был лишён всякой спешки. Ему нравилось спрашивать «по-хорошему», потому что это давало его вопросу жалкую маску человечности. – Где вы прячете гримуар?
Гримуар – вот ключ к пониманию всей этой сцены. Что такое гримуар? Для кого-то – суеверная книга, для кого-то – сборник заклинаний, для кого-то – простой фолиант. Но иное: в мире, где власть делится печатями и тайнами, гримуар – это власть, это знание, которое может либо вынести на свет истину, либо уничтожить её; это книга, перед которой люди покрывают лицо. Луи отвечал коротко, по-юношески, но в его слове слышалась и решимость, и немного дерзости:
– Как бы вы не старались, вы её не найдете.
Барон улыбнулся. Не буду лгать: эти улыбки – утомительные улыбки людей, которые давно научились считать тех, кого они держат, простыми пунктами в списке дел. Он подошёл к столу, где стояли банки с растворами – и вот здесь наступает момент, который всегда вызывает во мне дрожь: человек, смешивающий яд, действует не как механик, а как художник, бесчеловечно вкладывающий в простое действие смысл смерти. Он наполнил шприц, и его пальцы не дрогнули, как не содрагаются пальцы врача, только вот врач спасает, а он – губит.
– Что вы задумали? – прошептала Сара; голос её едва слышался, но в нём было не столько страх, сколько вопрос к самой жизни: зачем всё это, какое право у человека распоряжаться чужим дыханием?
– Это смесь стрихнина, – произнёс Барон сухо, – яд, добытый из дерева, горького на вкус… Примерно через сорок минут вы почувствуете судорожные сокращения… и через время начнёте задыхаться. Мне этого вполне хватит, чтобы выговорить с вас всё, что мне нужно.
Слова эти, такие расчётливые в своей мерзкой точности, звучали в комнате как приговор, и в эти минуты всё – обстановка, часовой свет, даже доски пола – как будто закрывались над ними.
Тогда произошло то, что объясняется не умом, а только кровью и длительным испытанием сердца: Луи шепнул матери, что успеет открыть наручники, и она кивнула – кивок тихий, полный старой решимости; в нём слышалась не просто материнская любовь, а та тяжкая, суровая материнская любовь, что способна и убить, и воскресить – не слово тут важно, а действие.
Барон подступил, улыбаясь своей уверенной улыбкой, и спросил с незримым презрением:
– Ну что? Приступим?
И в этот момент Сара толкнула сына – не жестом отчаяния, а жестом просчитанным и почти ритуальным, – и он упал у ног Крюгера. Она же, не теряя ни секунды, бросилась к камину; там лежал пистолет, заряженный, и, как это часто бывает в судьбах людей, инструмент спасения ждал своей очереди, как собутыльник, который появляется тогда, когда уже поздно пить чай. Пистолет – дуло, направленное в сторону мучителя, – был холоден, но в его простоте и была вся правда.
Барон опешил, отступая, и в его голосе вдруг забрезжил страх, тонкий и жалкий навык предательства уверенных в себе:
– Пришла пора ответить на наши вопросы – строго произнесла Сара де Рише.
– Не хочу вас огорчить, мадам, но ответа вы не получите. Того, кто меня послал, имя слишком громкое, чтобы его оглашать.
Как часто звучат подобные слова! Как часто людям, у которых есть за спиной авторитет, кажется, что их имя – это нечто, способное напугать и оправдать всё! Луи встал, обошёл Крюгера со спины; молодой человек обещал сохранить жизнь Барону при условии, что тот раскроет истину. Бумажная честь, слово – это для многих последнее прибежище; но барон с сарказмом отвечал, будто намереваясь показать миру, что слово молодого – вещь пустая.
И вдруг – выстрел. Ах, этот один звук! Он разрезал воздух, как нож, и в его резкости сразу же содержалась вся трагедия мира: порох, затем глухой падение, затем тот самый писк в ушах, который остаётся на всю жизнь у тех, кто слышал, как ломается судьба. Кровь – тонкая струйка – полилась на ковер и была впитана, как впитываются тайны; ковер, который до той минуты хранил пятно света, теперь узнал запах смерти.
Луи, стоя с расширенными зелёными глазами, смотрел на бездыханное тело, и в этом взгляде – смесь ужаса и понимания: он уже не был тем, кем был утром; он стал причастен к убийству, хоть и не по злому умыслу, а по внезапной необходимости. Сара прервала его растерянность ровным и холодным голосом, в котором слышалась рутина давно продуманного плана:
– Нам пора уходить.
И они ушли – молча, быстро, как люди, которые унесли с собой не только платья и вещи, но и новую тяжесть совести; ушли, оставив за собой комнату, где ещё долго висел дым пороха, запах которого врезался в обои и становился новым слоем памяти. И в этой памяти – тёмной, мрачной, полной маленьких вопросов, – остался гримуар, загадка которого так и не открылась, как не раскрываются иногда даже самые важные книги человеческой жизни.
Спустя несколько недель – и вот здесь, уважаемый читатель, наступает та пора, когда жизнь, если уж ей и суждено показать своё истинное лицо, показывает его с особенной настойчивостью и грубостью – в одной из тех маленьких, по-русски устроенных коммунальных квартир, что цеплялись, как сорные растения, на окраинах Парижа, случилось нечто, что могло бы показаться незначительным, почти комическим, но всё же таившим в себе нечто решительное и страшное. Да, поместье судьбы часто прячет свои удары за мелкими событиями: книга, пепельница, стук в дверь. В нашем случае – книга, сухая и потёртая, лежала в руках у Луи де Рише, и он, молодой человек с глазами какого-то девичьего, почти болезненного зелёного цвета, листал её так, будто искал в ней не слова – не то читать привычной усталой рассудка нуждой, а искать там того, что не даёт покоя сердцу.
Квартира эта была удивительная смесь чуждого и родного: по-русски коммунальная – то есть с общей кухней, с коридором, где лица соседей выглядели всегда взаперти, – но в Париже, с его влажным воздухом и запахом сожжённого масла, с маленькими французскими плафонами и картиночками, которые висели косо и как бы стыдились своей невеликолепности. Стены потрескавшиеся, углы залиты тёмными следами прошлых дождей, но в воздухе было больше не грязи, а какой-то привыкшей унылости, той самой, которая случается у людей, привыкших к постоянным потерям. На столе – чашка без чая; на подоконнике – бумажный силуэт какой-то незаконченной жизни; на полу – газеты; и в этом бедном быту молодой человек сидел и читал.