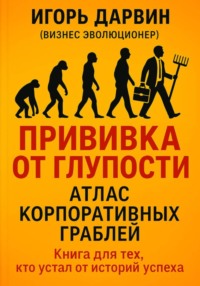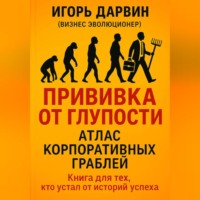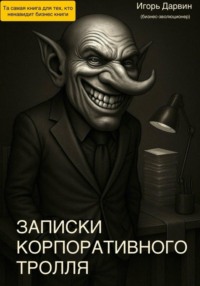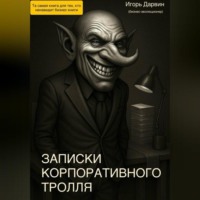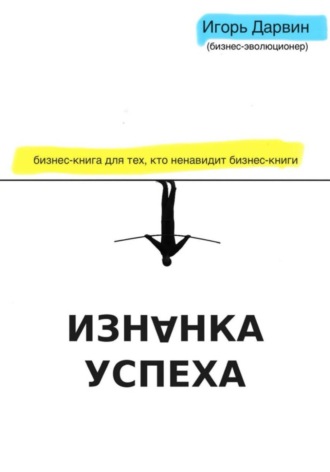
Полная версия
Изнанка Успеха

Игорь Дарвин
Изнанка Успеха
Предисловие
Мир бизнеса похож на океан. На его поверхности мы видим проекты, совещания и ключевые показатели – видимые волны, которые создают рябь. Но настоящая сила, определяющая движение кораблей, скрыта на глубине. Это невидимые течения корпоративной политики, негласные правила и подводные рифы человеческих амбиций. Официальная организационная структура говорит нам, кто главный, но редко объясняет, почему на самом деле все происходит именно так.
Эта книга – карта тех самых скрытых течений. Ее задача – дать вам инструменты, чтобы видеть не фасад, а несущие конструкции. Понять не то, что говорят люди, а то, какую игру они ведут. Здесь мы будем препарировать реальность, разбирая поступки и решения на составные части: власть, страх, мотивацию и холодный расчет.
Стоит сделать важное уточнение. Этот аналитический текст – сердцевина другой моей книги, «Записки Корпоративного Тролля», где каждая теоретическая модель была обернута в сатирическую историю. «Изнанку успеха» публикуется отдельно для тех, кому нужен чистый концентрат знаний. Для прагматиков, у которых нет времени на художественные отступления, но есть острая потребность понять, как все устроено на самом деле.
Не ищите здесь забавных персонажей или лирических отступлений. Вместо этого вы получите набор отмычек к сложным замкам корпоративного мира. Здесь мы не наблюдаем за игрой – мы изучаем ее правила. Добро пожаловать за кулисы.
Часть 1: Анатомия Лидера: Внутренняя Игра и Власть
Глава 1: Тень Чингисхана: Ошибка, которую повторяют до сих пор
В начале 2000-х, в бурлящем котле постсоветской экономики, я работал под началом человека, которого можно было бы назвать идеальным образцом типажа «Позолоченный Вождь». Формально я был его заместителем, членом правления его разросшегося холдинга. Неформально – частью его «свиты», допущенной в святая святых – на его личную турбазу.
Именно эта турбаза была не просто местом отдыха, а настоящей метафорой его личности и стиля управления. Это было его феодальное владение в самом прямом смысле: на огромной территории, помимо его дома, стоял еще один, не менее внушительный, где отдыхала его предыдущая семья – взрослые дети от первого брака со своими супругами и детьми. Весь его клан, прошлый и настоящий, находился под его рукой, на его земле, питаясь от его ресурсов. Это была не просто база отдыха; это был его личный Версаль, где он, подобно монарху, собирал свой двор, чтобы демонстрировать власть и требовать преклонения. Для него было неважно, что происходит с бизнесом, главное, чтобы здесь, в его мире, ритуал поклонения не прерывался.
Портрет: Продукт Эпохи.
Наш Вождь был продуктом своей эпохи, человеком, чья биография идеально иллюстрирует превращение советского дельца в капиталистического магната. Еще в Советском Союзе он работал на крупных промышленных предприятиях, где научился главному – искусству «решать вопросы». Его умение находить лазейки в системе и договариваться с нужными людьми едва не привели его к уголовному делу, заставив спешно сменить место жительства.
Но то, что было недостатком в плановой экономике, стало его главным преимуществом в хаосе 1990-х. Негативные качества – оппортунизм, готовность к риску, презрение к формальным правилам и способность манипулировать – превратились в позитивные. Он оказался в нужное время в нужном месте, сумев стать акционером вновь создаваемого предприятия нового направления развития отрасли. В последующие годы, используя комбинацию легальных схем и административного ресурса, он методично наращивал свой пакет акций, пока не довел его до контрольного.
С психологической точки зрения, Вождь представлял собой классический пример того, что в темной триаде личности называют сочетанием нарциссизма и макиавеллизма. Он обладал грандиозным чувством собственной важности и требовал беспрекословного восхищения. В то же время он был расчетливым манипулятором, для которого люди были лишь инструментами для достижения целей. Его патерналистский стиль управления сочетался с тотальным контролем над ресурсами и доступом к «телу».
Ритуал на реке и Теория двух факторов.
С вечера пятницы по утро понедельника мы, его топ-менеджеры, проходили сложный ритуал, центральным элементом которого была утренняя рыбалка. Если ты, после ночи разговоров и возлияний, мог, не ложась спать, в пять утра отправиться с боссом на реку, ты подтверждал свою лояльность.
В тот уик-энд вместе со мной на турбазе был мой коллега Олег. Формально он был моим подчиненным, но на деле мы работали не в такой иерархии, а в формате, который сейчас в бизнес-литературе все чаще называют «корабельным рейдом». Суть этой концепции проста: у команды есть четкая, сверхсложная задача и пункт назначения, до которого нужно добраться во что бы то ни стало. В пути нельзя поменять ни одного члена экипажа, ни тем более капитана, – все разделяют общую судьбу и должны дойти до конца.
Вот и у нас в коммерческом блоке был такой «рейд». Олег был опытнейшим управленцем: до работы со мной он возглавлял несколько крупных компаний в разных субъектах Российской Федерации, в его послужном списке была и работа в иностранных компаниях. Его кругозор был необычайно широк, он был начитан, грамотен и владел иностранными языками. И вот в те выходные, по моему предложению, он был приглашен Вождем разделить с нами досуг.
Чтобы понять парадокс, который должен был вот-вот разыграться, – ритуальная близость на фоне тонущего бизнеса, – нам необходимо обратиться к классической теории мотивации Фредерика Герцберга. Он разделил все аспекты работы на две категории:
• Гигиенические факторы: зарплата, статус, безопасность, условия труда, отношения с начальством. Они не мотивируют, но их отсутствие вызывает сильную неудовлетворенность.
• Мотиваторы: достижение успеха, признание, ответственность, возможность роста, содержание самой работы. Именно они побуждают человека работать лучше.
Приглашение на турбазу, право сидеть у его костра, рыбалка плечом к плечу – все это были мощнейшие гигиенические факторы. Близость к лидеру давала огромный статус внутри компании. Вождь виртуозно управлял этими факторами, поддерживая в команде постоянное напряжение. Но он совершал фундаментальную ошибку: он думал, что эти факторы являются мотиваторами.
Момент Истины.
И вот однажды иллюзия разбилась. Мы возвращались с рыбалки. «Друзья, – сказал Вождь. – Почему вы не можете действовать, как воины Чингисхана? Он завоевал полмира! Почему мы не можем так же?»
И тогда Олег спокойно ответил: «Вы правы. Но разница в том, что каждый воин Чингисхана был акционером его побед».
Наступила тишина. Олег попал в самую суть. Успех Чингисхана строился не на харизме, а на жесткой и справедливой системе, закрепленной в его своде законов – Великой Ясе. И Яса предельно четко регламентировала распределение добычи. Это был не просто грабеж, а системный процесс:
• Доля хана: десятая часть всей добычи отходила лично Чингисхану.
• Доля командиров (темников, тысячников): они получали значительную часть в зависимости от своего ранга и успеха в битве.
• Доля воина: каждый рядовой воин имел право на свою часть захваченного. Это было его законное право, а не милость хана.
• Доля сирот и вдов: часть добычи выделялась семьям воинов, павших в бою.
Что произошло в этот момент? Олег не просто остроумно ответил. Он вскрыл фундаментальную ошибку в системе управления Позолоченного Вождя, которую можно назвать «Ошибкой Чингисхана». Эта ошибка заключается в том, что лидер требует от своих последователей уровня самопожертвования, преданности и изобретательности, присущего совладельцам предприятия, но отказывает им в главном – в реальной доле в успехе.
Каждый воин, от простого лучника до полководца, сражался не только за славу хана, но и за свое собственное, вполне материальное будущее. Они не были наемниками, получающими фиксированную плату. Они были, как точно выразился Олег, акционерами. Воины сражались не за право посидеть у костра с великим ханом. Они сражались за конкретные, материальные блага для себя и своих семей. Их мотивация строилась не на гигиенических факторах, а на мощнейших мотиваторах Герцберга: достижении (победа), признании (статус через богатство) и ответственности (за свое будущее).
«Позолоченный Вождь» же предлагал своей команде другую сделку. Вместо доли в успехе он предлагал привилегию – близость к телу лидера. Приглашение на турбазу, право сидеть у его костра, возможность пойти с ним на рыбалку – все это были маркеры статуса внутри его маленького мира. Но это была нематериальная валюта, ценность которой стремилась к нулю по мере того, как сам холдинг шел ко дну. Он требовал от своих «воинов» воевать за идею, но вся добыча предназначалась только одному человеку – ему самому. Утренняя рыбалка была не символом единства, а тестом на подчинение. Это была иллюзия сопричастности, за которой скрывалась жесткая эксплуатационная модель.
Фраза Олега разрушила эту иллюзию. Она перевела разговор из плоскости красивых метафор в плоскость реальных стимулов. И оказалось, что стимулов не было.
Работает ли Яса Чингисхана сегодня?
Но означает ли это, что метод Чингисхана – универсальный ключ к успеху? Если бы все было так просто. Попытка прямого переноса Ясы в современный бизнес выявляет несколько фундаментальных проблем.
Во-первых, экономика Чингисхана – это экономика добычи. Его модель была основана на захвате и перераспределении уже существующих богатств. Это разовая, конечная операция. Современный бизнес, в идеале, построен на создании новой стоимости, на инновациях и устойчивом росте. Мотивация, основанная на дележе награбленного, отлично работает в рейдерских захватах, но не в построении долгосрочной компании.
Во-вторых, проблема масштаба, но она гораздо коварнее, чем кажется. Дело даже не в ничтожном проценте владения. Парадокс в том, что когда этот процент в абсолютных цифрах превращается в огромное состояние, мотивация ломается окончательно. В этот момент топ-менеджер перестает быть предпринимателем и становится хранителем сокровищ. Любое смелое действие может привести к ошибке, а любая ошибка ставит под угрозу его личное «золотое будущее».
Он становится заложником системы, созданной для его же мотивации. Его единственная стратегия – плыть в заданном фарватере, не совершая резких движений, чтобы благополучно дождаться заветной даты вестинга. Желание принимать судьбоносные стратегические решения уступает место всепоглощающему страху потерять свое благополучие. В результате компания превращается в организацию без инноваций, где весь топ-менеджмент не предлагает ничего нового. В лучшем случае такая компания стагнирует, в худшем – медленно умирает, пока ее руководство обналичивает свои опционы.
И здесь мы приходим к неутешительному выводу. Абсолютно правого ответа, похоже, не существует. Ошибка Позолоченного Вождя была не в том, что он не применил «метод Чингисхана». Его заблуждение было глубже. Он верил, что можно построить империю на поклонении, подменив сложную систему реальных мотиваторов дешевой позолотой личной лояльности. А такая конструкция, как показывает история, всегда обречена на крах.
Глава 2: Репутационная призма: один свет-разные спектры
Я всегда стараюсь поддерживать связь с хорошими людьми из моих прошлых команд. Эти отношения, выкованные в горниле «корабельных рейдов» и корпоративных войн, ценнее любой записи в трудовой книжке. И вот однажды, спустя почти десять лет после одного из таких «рейдов», мне приходит сообщение от бывшей коллеги.
Она пишет, что на некой коучинг-сессии их попросили назвать лучшего руководителя, с которым они когда-либо работали. И она, без колебаний, назвала меня. Аргументация, по ее словам, была обширной: развитие команды, которое я поощрял, финансовые результаты, которых мы добились, созданная атмосфера. Я читал это и чувствовал приятное тепло – то самое эхо хорошо выполненной работы, которое доносится из прошлого.
Но история на этом не закончилась.
В этот момент, пишет она, один из руководителей из другого региона, присутствовавший на той же сессии, встрепенулся.
– Это тот самый, который потом возглавил [название компании]?
– Да, совершенно верно, это он.
– Не могу согласиться. Я работал под его началом. Отвратительный руководитель.
– Почему? – удивилась моя коллега.
– Потому что он обещал мне повышение, а в итоге повысил человека который симпатизировал нашей «кадровичке».
Мораль, которую вывела моя коллега, была проста: для каждого «лучший руководитель» определяется разными категориями. Моя же первая мысль была куда более циничной: в конце концов, ничто не мешало тому парню тоже симпатизировать нашей кадровичке.
Шутки в сторону. Этот диалог, эта пощечина из прошлого, идеально вскрывает феномен, который можно назвать «репутационной призмой».
Эффект Гало и Рогов.
Мы привыкли думать о репутации как о чем-то цельном, как о статуе, которую мы медленно высекаем из гранита своими поступками. Но это иллюзия. На самом деле репутация лидера – это не статуя. Это призма. Лидер излучает свет – свои действия, решения, слова. Но этот свет, проходя через призму индивидуального опыта каждого сотрудника, преломляется и распадается на совершенно разный спектр. Для одного он будет теплым и золотым, для другого – холодным и резким.
Этот феномен прекрасно объясняется классическим когнитивным искажением, известным как эффект ореола (Halo Effect) и его темный двойник – эффект рогов (Horns Effect).
* Для моей бывшей коллеги сработал «эффект ореола». Ее общий позитивный опыт работы со мной создал сияющий ореол вокруг моего образа. Любые мои действия, даже спорные, она, скорее всего, интерпретировала через эту положительную призму («Он принял тяжелое, но стратегически верное решение»).
* Для второго руководителя сработал «эффект рогов». Один-единственный негативный опыт – отказ в повышении – надел на меня воображаемые рога. Этот единичный факт окрасил в черный цвет всю мою личность. Он не думал: «Я проиграл в конкурентной борьбе». Он думал: «Он коррумпированный и несправедливый тиран». Все, что я делал, он теперь видел через фильтр личной обиды.
Один и тот же человек. Одно и то же время. Два диаметрально противоположных вердикта. Я не был ни святым, ни демоном. Я был просто светом, который прошел через две разные призмы.
Два лица Наполеона
Если перенести этот принцип на большую историю, мы увидим его в действии повсюду. Возьмем, к примеру, Наполеона Бонапарта. Существует ли «объективная» репутация Наполеона? Нет. Существует лишь репутационная призма.
* Для молодого французского солдата из бедной семьи он был спасителем нации, человеком, который дал ему ранец маршала, открыл социальные лифты и привел Францию к славе. Его свет был светом надежды и величия.
* Для испанского крестьянина, чью деревню сожгли французские войска, он был антихристом, «корсиканским чудовищем», тираном, утопившим Европу в крови. Его свет был разрушительным пожаром.
* Для немецкого философа Гегеля, увидевшего его в Йене, он был «мировым духом на коне», воплощением исторического прогресса.
* Для русского дворянина, потерявшего имение в 1812 году, он был варваром и захватчиком.
Был ли Наполеон освободителем или тираном? И тем, и другим. И ни тем, и ни другим. Он был исторической силой, а его репутация – это сумма миллионов субъективных преломлений его действий.
Урок Призмы.
Так что же делать лидеру? Смириться с тем, что половина команды будет считать тебя гением, а другая половина – мерзавцем?
Да. Именно так.
Урок «репутационной призмы» не в том, чтобы научиться нравиться всем – это невозможно. Он в том, чтобы перестать пытаться управлять тем, что тебе неподвластно, – чужим восприятием. Единственное, что лидер может контролировать, – это источник света: свои принципы, свои решения и свою последовательность.
Ваша задача – не высекать идеальную статую, а быть максимально ярким и стабильным источником света. А уж в какой цвет его окрасит призма личного опыта каждого отдельного человека – это его личная история. И, как показывает мой случай, иногда эта история может вас очень сильно удивить.
Глава 3. Теория раскаленного руля
В науке об организациях существует негласное правило: о качестве работы административно-хозяйственного отдела (АХО) лучше всего судить по его незаметности. Если вы не вспоминаете о его существовании, значит, он работает идеально. Свет горит, в кулере есть вода, принтер печатает, а летом в офисе царит спасительная прохлада. Проблемы начинаются тогда, когда руководитель этого отдела становится слишком заметной фигурой.
На одном из моих прошлых мест работы, в регионе с жестоким, биполярным климатом – где летом воздух плавился при +50°C, а зимой трескался от мороза в -50°C – наш завхоз был очень заметным человеком. Он был из тех, кого часто назначают на подобные должности: отставной силовик, человек системы и порядка, для которого «нет» было не просто ответом, а фундаментальным принципом мироздания.
История, изменившая мой взгляд на управление, началась с двух, казалось бы, не связанных событий.
Сначала мы пригласили из соседнего региона ценного технического эксперта. После нескольких дней работы его нужно было отвезти обратно. Путь занимал много часов, и я попросил наш транспортный отдел выделить машину. На следующий день я позвонил эксперту и услышал в его голосе нотки вежливого, но стального изумления. Он несколько часов ехал по раскаленной степи в автомобиле без кондиционера, хотя в нашем парке были свободные машины с работающим климат-контролем.
Вторым событием стал звонок из удаленного офиса. Беременная сотрудница упала в обморок. Причина? Кондиционер в помещении не работал уже неделю.
Я вызвал завхоза. То, что последовало дальше, было не отчетом, а шедевром бюрократической прозы. Он с виртуозным мастерством объяснял мне, почему починить кондиционер невозможно. Сложная логистика запчастей, регламенты, бюджетные ограничения – его аргументы были безупречны. Он выстраивал вокруг проблемы такую высокую стену из объективных трудностей, что я почти поверил: кондиционер обречен. Он был мастером в объяснении того, почему что-то нельзя сделать.
И в этот момент я осознал фундаментальную истину. Проблема была не в запчастях. Проблема была в дистанции. Для моего завхоза сломанный кондиционер был абстрактной строчкой в журнале заявок. Обморок сотрудницы – досадным инцидентом в отчете. Раскаленный салон автомобиля – статистической единицей автопарка. Он был полностью изолирован от физических последствий своего бездействия. Он управлял реальностью из прохладного, кондиционированного кабинета.
Эффект вынужденного погружения
Психологи и социологи давно изучают феномен, который можно назвать разрывом эмпатии . Это наша неспособность в полной мере понять состояние другого человека, если мы сами не находимся в схожих обстоятельствах. Мы можем сочувствовать голодному, но по-настоящему понять, что такое голод, можно только будучи голодным. Мой завхоз не был злым человеком. Он просто находился по другую сторону этого разрыва. И моя задача как руководителя была не в том, чтобы наказать его, а в том, чтобы этот разрыв принудительно сократить.
Я отправил его в командировку с единственной целью: починить кондиционер. Когда он начал возражать, я сообщил, что до выполнения задачи его рабочее место переносится в тот самый душный офис. Он мрачно согласился и потянулся за ключами от своей служебной машины с исправным кондиционером.
«Одну минуту, – сказал я. – Ключи оставьте здесь. Поедете на той машине, на которой вчера ехал наш эксперт».?Выражение его лица мгновенно изменилось. В нем смешались недоумение и ужас. «Но на улице пятьдесят градусов! Это же пытка!»– «Вчера вас это не слишком волновало», – ответил я.
Я не дал ему новых ресурсов. Я не отменил регламенты. Я просто поместил его в ту же физическую реальность, в которой находились его «клиенты». Я заставил его взяться за раскаленный руль.
Кондиционер был починен на следующий день.
От Gemba Walk до Dogfooding
То, что я сделал интуитивно, на самом деле является краеугольным камнем некоторых из самых успешных управленческих практик в мире.
1. Принцип "Gemba" в Toyota. Слово gemba в переводе с японского означает «реальное место» – то есть, цех, сборочная линия. Философия Toyota требует, чтобы инженеры и менеджеры регулярно покидали свои кабинеты и шли в gemba. Они должны не читать отчеты о проблемах, а видеть их своими глазами, слышать шум станков, чувствовать запах масла и говорить с рабочими. Это уничтожает дистанцию.
2. Принцип "Dogfooding" в Кремниевой долине. Фраза Eating your own dog food («Есть корм собственной собаки») означает, что сотрудники компании обязаны использовать в повседневной жизни те продукты, которые они создают, даже если это сырые, нестабильные бета-версии. Программист, чей компьютер пять раз за день «падает» из-за написанного им же кода, исправляет ошибку с совершенно иным уровнем мотивации, чем тот, кто читает о ней в безличном баг-репорте.
Мой завхоз проработал в компании еще полтора месяца, а потом уволился, так и не поняв, что произошло. Он был уверен, что стал жертвой самодурства начальника. Урок не был усвоен.
И в этом заключается главный парадокс Раскаленного руля. Это невероятно мощный инструмент для изменения поведения, но он работает только тогда, когда человек способен связать свой дискомфорт с его первопричиной – собственным бездействием. Если этой связи не возникает, он видит лишь тиранию. Он чинит кондиционер, но не чинит себя. И в конечном счете система его отторгает.
Глава 4. Принцип Навязанного Соседства
В 2008 году три социальных психолога – Фрэнк Флинн, Амир Эрез и Юваль Салман – провели серию любопытных экспериментов в Колумбийском университете. Они просили участников подходить к незнакомцам в оживленном кафе и просить их об одолжении: заполнить короткую анкету. Но была одна загвоздка. Участники должны были сначала предсказать, сколько человек им откажет. Подавляющее большинство предсказывало тотальный провал. Они были уверены, что в лучшем случае согласится один из десяти. Реальность оказалась шокирующей. Почти половина незнакомцев с готовностью соглашалась помочь.
Этот феномен, описанный в книге «Психология убеждения. 50 доказанных способов быть убедительным» (авторы: Н. Гольдштейн, С. Мартин, Р. Чалдини), известный как «недооценка готовности к сотрудничеству», вскрывает фундаментальную ошибку нашего социального мышления. Мы живем в плену невидимых барьеров, возведенных страхом отказа и боязнью показаться навязчивыми. Мы предполагаем, что мир по умолчанию враждебен, а путь к цели лежит через сложные формальности и длинные согласования. Но что, если это не так? Что, если самый короткий путь – это тот, который нарушает все общепринятые нормы?
Чтобы вы поняли, как это работает, я расскажу вам историю, которая произошла со мной в столице одного из «объединенных регионов» одной компании. Представьте себе огромный опен-спейс, результат «прогрессивной» корпоративной реорганизации. Здесь собрали всех, кто выжил после слияния. Ни у кого нет своего кабинета, даже у меня, финансового директора.
В тот момент я только что оказался без жилья. Первые четыре месяца я жил у нашего коммерческого директора, но к нему приехала семья. У меня, как и у всех топов, в контракте была прописана компенсация аренды. Стандартный путь был очевиден: риелтор, просмотры, договор, залог, отчеты в бухгалтерию… Путь правильный, но усеянный мелкими, раздражающими проблемами. Я выбрал другой.
В середине рабочего дня я вышел в центр нашего гудящего опен-спейса. Шум клавиатур стих, когда я, достаточно громко, чтобы услышали все, задал вопрос: «Прошу поднять руки тех, кто проживает в квартире один, без семьи!»
Задумайтесь на секунду. Это было грубое вторжение в личное пространство. Публичное требование нерабочей информации. В повисшей тишине медленно поднялись три руки. Одна принадлежала административному директору, вторая – кому-то из маркетинга, а третья – нашему директору по ИТ, Алексею.
Я не стал выбирать. Я подошел прямо к нему и произнес фразу, которая и есть суть этого принципа: «Алексей, нужно пойти к коммерческому директору и из его машины перегрузить мои вещи в твою. Начиная с сегодняшнего вечера я живу у тебя».
Это не было просьбой. Это был установленный факт. Я навязал ему новую реальность, в которой отказ был социально невозможен. Почему он согласился? Оглядываясь назад, я понимаю, что интуитивно использовал то, что теперь называю Принципом Навязанного Соседства.