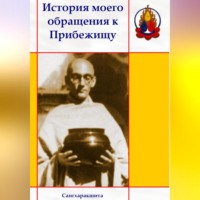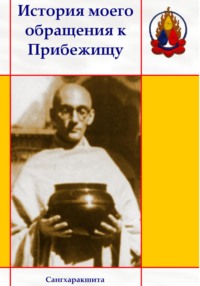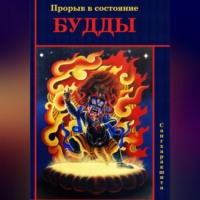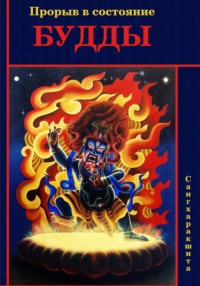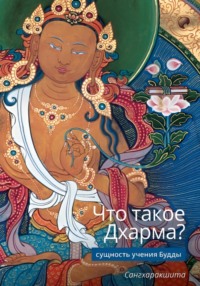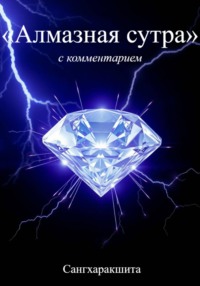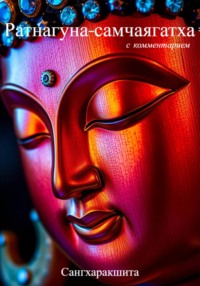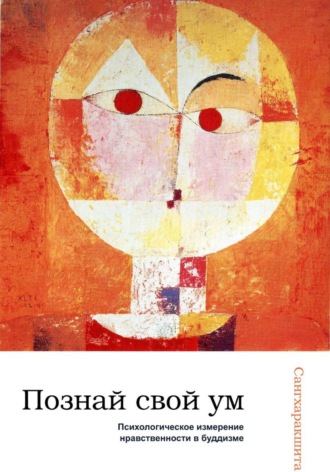
Полная версия
Познай свой ум: психологическое измерение нравственности в буддизме
Видение вещи относится к уму.
Видение ее особой характеристики относится к событию ума55.
«Мадхьянтавибхага»
В своем переводе «Мадхьянтавибхаги» Щербацкий так передает объяснение этого утверждения, сделанное Васубандху: «Это означает, что Ум (как таковой, то есть чистое чувствование) воспринимает только Вещь (то есть вещь-в-себе, чистый объект). Феномены ума, такие, как, к примеру, ощущения (приятные и неприятные), воспринимают его качества (то есть качества Вещи, приятные или неприятные). <…> [Васубандху говорит, что] среди них Ум воспринимает только Вещь. Здесь слово «только» служит для исключения (любого вида) определенности»56.
Другими словами, ум – это осознанность относительного того, что Гюнтер называет «фактами»: осознание уникальности и особенности каждого объекта, или, говоря проще, осознание его присутствия. Оно не включает осознание любых качеств как таковых, даже качеств, которые отличают данную вещь от других вещей. Все это попадает в разряд событий ума. При таком определении ум – это общая, даже неопределенная осознанность. Но она не определена лишь с точки зрения познания. Хотя она и не приписывает объект к определенному классу, в ней есть ясное, непосредственное постижение предмета как присутствия его здесь. Иными словами, ум – это восприятие того, что Гюнтер называет «этостью» вещи. Этость – это термин, позаимствованный из схоластической философии и обозначающий «таковость» в значении особого характера вещи – того, что это и есть конкретная вещь, а не таковость данного качества. Это чистое восприятие, лишенное концептуализации. Все обстоит так, как будто в нас присутствует мгновенная, обнаженная осознанность, чистая осознанность, прежде чем ум начинает функционировать по отношению к тому, что мы воспринимаем57.
Иногда мы случайно осознаем сиюминутность этой чистой осознанности. К примеру, иногда, когда мы только что проснулись утром, события ума еще не успевают возникнуть, и тогда мы воспринимаем мир без интерпретаций пару минут, прежде чем на арену выходят события ума. При обычном ходе вещей мы быстро теряем это ощущение, но его можно развивать. В медитации можно приблизиться к этому качеству почти чистого восприятия, что, по-видимому, указывает нам на то, что потенциально опыт чистого ума уже здесь, уже функционирует, только слабо.
Восприняв объект, ум чаще всего увлекается им определенным, особым образом. Он заинтересован в нем или нет, ему нравится или не нравится объект, он принимает или отвергает его, доволен или рассержен объектом, ум сравнивает его с другими вещами – и так далее. Эти особые способы, которыми ум увлекается объектом, на пали называются четасика, что значит «связанные с умом», а на санските чаитта – дхармы, «которые принадлежат уму», то есть «события ума» или «обстоятельства, сопутствующие уму».
Если мы смотрим на человека и осознаем его, это ум. Но когда мы начинаем, к примеру, думать: «Он немного выше, чем тот, другой парень» или «Мне не нравится, как он выглядит», – это события ума. Конечно, в одно и то же время может присутствовать не одно событие ума, существуют целые их комплексы. На самом деле, как мы увидим, есть пять «вездесущих» событий ума. События ума возникают, когда мы увлекаемся объектом более частным образом и начинаем воспринимать или постигать его отличительные качества. Однако, можно задаться вопросом, как эта интерпретация нашего опыта, эта идея о своего рода лакуне между умом и событиями ума, сообразуется со следующей цитатой Еше Гьялцена, которая, на первый взгляд, авторитетно противоречит ей: «Ум и события ума, несомненно, сопутствуют друг другу»58.
Я предположил, что может существовать осознание объекта без вступления на арену событий ума. Однако это, очевидно, не тот вывод, который делается здесь. Эти два утверждения можно примирить, введя третий термин – «ум как таковой». Но зачем нам нужен этот термин? Почему бы просто не сказать, что ум иногда ассоциируется с событиями ума, а иногда нет? Простой ответ заключается в том, что, хотя и может существовать ум без событий ума, не бывает событий ума без ума, а ум, который мы обретаем с событиями ума, отличен от ума без них.
Словно, если события ума прекращаются, ум в значении ума, который сопровождает события ума, также прекращается. Тогда мы остаемся наедине с тем, что называется умом как таковым. Если ум и события ума – это близнецы, то с исчезновением одного из них второй близнец перестает быть близнецом. Если события ума прекращают существовать – или еще не возникли – ум уже не тот, что прежде, он «становится» или «замещается» «умом как таковым». «Ум как таковой», между прочим, это не выражение Абхидхармы, это перевод слова сем-ньи, термина, введенного философами тибетской школы Нингма, которые изучали Абхидхарму и разработали собственное ее видение.
Еше Гьялцен заходит несколько дальше «Абхидхармакоши», говоря, что «ум и события ума возникают вместе, с точки зрения времени, и состоят из одного и того же»59. Сказать, что ум и события ума состоят из одного и того же, это значит сказать гораздо больше, чем что они, несомненно, сопутствуют друг другу. Васубандху, вероятно, не ощущал необходимости в столь смелых утверждениях. Достаточно заявить это: поскольку они озабочены одним и тем же объектом в одно и то же время, ум и события ума, несомненно, сопутствуют друг другу.
Чтобы дальше углубиться в эту тему, можно обратиться к вступительным примечаниям доктора Гюнтера к тексту60. Здесь Гюнтер предполагает, что отношения между умом и событиями ума подобны отцу и его сыновьям. Сыновья находятся в «симметричных» отношениях друг к другу, в то время как их отношения с отцом «асимметричны». То есть, Дэвид – брат Джона и, следовательно, Джон – брат Дэвида: отношения симметричны. Но если Питер – отец Джеймса, из этого не следует, что Джеймс – отец Питера: в данном случае отношения асимметричны. Следовательно, события ума или сопутствующие факторы ума находятся в симметрических отношениях, потому что все они относятся к одному и тому же уму, но все они асимметричны по отношению к самому уму.
Однако было бы ошибочно выводить из этого понятие об уме как о неком устойчивом центре или эго, вокруг которого возникают и уходят события ума. Все обстоит вовсе не так, что все, что у нас есть – это ум в его изначальной славе, а затем возникают события ума. Ум – в том смысле, в котором этот термин используется здесь – и события ума возникают вместе. В сущности, как только мы воспринимаем объект, сопутствующие факторы ума уже здесь. В этом смысле сам ум – это событие ума, старший брат, можно сказать, а не отец. «Отец» – это не ум, а то, что Гюнтер называет «икс-фактором», по отношению к которому ум и события ума находятся в симметрических отношениях друг к другу.
Икс-фактор – это ум как таковой или ум как чистый факт, это точка отсчета и для ума, и для событий ума. Если ум как таковой можно представить образом озера без ряби, то возникающая рябь, можно сказать, будет двухсторонней (умом и событиями ума), и эти стороны неизбежно возникают и утихают одновременно.
Поэтому, хотя мы естественным образом склонны думать о событиях ума, как о возникающих вслед за неким постоянно присутствующим умом, на самом деле нет реального различия между умом и событиями ума: они просто выполняют различные функции в процессе субъектно-объектного взаимодействия. Об уме можно точно так же говорить, как о событии ума. Следуя относительному подходу Йогачары, мы можем даже усомниться, существует ли ум вообще. На самом деле, это вопрос можно задать по отношению ко всем терминам, которые мы используем. «Ум» и «события ума» – это полезный способ описать процесс, который мы ощущаем, их не нужно воспринимать как жесткое, окончательное описание.
Говоря вкратце, ум на самом деле вообще не поддается описанию, и пытаться описать его – значит фальсифицировать его, хотя попытки описать его действительно дают возможность прийти к пониманию его истинной природы. Термин «ум как таковой» – из области метафизики или эпистемологии, а не психологии, если речь идет о неописуемом и, следовательно, неопровержимом уме. Следовательно, нужно относиться к «уму как таковому» или «уму как чистому факту» как к рабочей концепции, которая помогает нам не принять ум за некое постоянное и неизменное эго. Именно существование, так сказать, ума как чистого факта защищает нас от абсолютизации ума как описанного факта, то есть от слишком буквального его принятия. Поскольку нельзя сказать ничего об уме как чистом факте, описанный факт – не более чем наши ложные попытки описать ум как чистый факт.
Продолжая рассуждать о чистом факте и описанном факте, можно сказать о видье, мудрости, и авидье, неведении. Видья, что Гюнтер переводит как «чистая осознанность» или «восприимчивое различение», – это то, что воспринимает чистый факт, словно мудрость – это ум как чистый факт в действии. Авидья, или «отсутствие чистой осознанности» (что обычно переводится как «неведение») – это то, что воспринимает описанный факт. Поскольку неведение относят к сопутствующим обстоятельствам ума, сам ум в состоянии неведения или недостатка осознанности также является сопутствующим обстоятельством ума.
На самом деле, подводя итог этому очень сложному вопросу, тот факт, что мы проводим различие между умом и событиями ума вообще, – пример того неведения, которое само по себе является событием ума. Поэтому различие между умом и событиями ума – это не абсолютное различие, а рабочая концепция. Нельзя раздробить реальность на взаимоисключающие кусочки, а затем соединить их снова, чтобы постичь истину. Единственный способ прийти к истине – вообще перестать дробить реальность.
Но разве весь метод Абхидхармы не заключается в подобном дроблении реальности? Нужно быть осторожными – и, вероятно, можно сказать, что сами абхидхармики не были, в конечном счете, достаточно осторожны в этом – и не принимать вопрос анализа в целом слишком буквально. Можно ли на самом деле отделить одну часть вещи от других, или это разделение лишь условно? Вы можете отделить нос от остального лица, но где кончается нос и начинается остальное лицо? Есть ли реальная граница? И, если ее нет, разве отделение носа от лица не спорно, по крайней мере, до некоторой степени? Или возьмем время: мы делим время на минуты, но разделено ли на самом деле время на минуты?
Если вы делите вещи, всегда есть проблема: как снова соединить их вместе. В практических целях подобного деления нельзя избежать, но опасно считать эти разделения на самом деле соответствующими реальности. Это ум дробит вещи, но реальность не состоит из кусков, связанных вместе. В то же самое время, нельзя сказать, что вещи совершенно непрерывны, поскольку мы, несомненно, видим если не различия, то, по крайней мере, неровности реальности. Все, что можно сделать, – использовать эти понятия непрерывности и дробности должным образом.
С этой точки зрения мы можем рассматривать Абхидхарму просто как манипуляцию рабочими концепциями для определенной практической цели. Это пример того, что тантрики называют «использованием грязи для того, чтобы выбраться из грязи». Именно сопутствующее обстоятельство ума – «недостаток чистой осознанности» – проводит это различие между умом и событиями ума, но посредством этого различия мы можем классифицировать и отделить искусные состояния ума от неискусных. Ведя духовную жизнь на этой основе, мы рано или поздно выходим за пределы неискусных состояний ума. Тогда мы выходим и за пределы искусных состояний ума и, наконец, за пределы самого различия между умом и событиями ума.
В высшей мере сомнительно, что сами абхидхармики подобным образом смотрели на то, чем они заняты. Гюнтер, который рассматривает этот вопрос во многом с точки зрения Нингмы, очень старается подчеркнуть, что за эту точку зрения нам стоит благодарить философов Нингмы, которые привнесли в традицию Абхидхармы живой опыт61. Можно сказать, что эта точка зрения немного выходит за пределы собственно Абхидхармы, но если это и так, то это оправдано.
С помощью духовной практики и особенно развития дхьяны (дхьяна – состояние высшего сознания, достигаемое посредством практики медитации) события ума становятся чище и реже, пока со временем, когда мы вступаем в измерения арупыили «бесформенных» дхьян, мы не остаемся наедине с простотой ума, лишенной любых загрязнений. Этот ум не чист в том смысле, что сопутствующие факторы ума отвергнуты. Они не просто поглощены и полностью объединены: вся энергия, которая была заключена в этих факторах ума, переходит в сам ум, который остается в виде чистого восприятия. Ничто не утрачивается: это простота богатства, а не нищеты.
Эта простота отражается в опыте четырех арупа-дхьян. Когда мы вступаем в первую из них, сферу бесконечного пространства, это не означает, что мы воспринимаем внешний объект, называемый пространством. Ум не просто движется без сопротивления или затруднений. Обычная интерпретация второй арупа-дхьяны, сферы бесконечного сознания, заключается в том, что для того, чтобы пересечь бесконечное пространство, сам ум должен быть бесконечным. Но, вероятно, точнее было бы сказать, что в этом состоянии сознания мы начинаем осознавать бесконечное многообразие деятельности ума. С третьей арупа-дхьяной мы начинаем сомневаться, существует ли вообще объект, и, следовательно, также в некотором смысле сомневаемся и в существовании субъекта. Так мы вступаем в сферу «ничтойности». И, наконец, сфера ни-восприятия-ни-невосприятия переносит этот процесс еще на ступень выше. Это «высочайшее мирское достижение» на пути практики. Можно вступить на путь мудрости на любой из дхьян, но чем выше дхьяна, тем более концентрирована энергия, стоящая за постижением и ведущая к мудрости.
Пять функциональных соотношенийКак мы видели, в природе ума – иметь сопутствующие события ума. Абхидхарма, как можно ожидать, обращается к специфике этих отношений и делает это путем перечисления пяти «функциональных соотношений», как довольно неуклюже переводит это Гюнтер (Хопкинс обозначает это как «пять подобий» или «пять тождеств»)16. Соответственно, в природе событий ума возникать в связке с умом – и вновь это происходит посредством пяти функциональных соотношений. Согласно «Абхидхармакоше», они таковы: сходная основа, сходное объектное отношение, сходное наблюдаемое качество, сходное время и сходное вещество63.
Итак, во-первых, «сходная основа». Чтобы понять это, нам нужно вспомнить, что в буддизме ум считается одним из шести чувств (конечно, остальные – это вкус, осязание, обоняние, зрение и слух). Шесть чувственных способностей (которые включают ум) – это средства, благодаря которым ум совершает восприятие; не бывает чувственного восприятия без воспринимающего ума. Следовательно, чувственные способности зависят от ума, точно так же, как и события ума. Следовательно, существует общая основа – «сходная основа» для чувств (включая ум, рассматриваемый как чувство) и событий ума.
«Сходное объектное отношение» означает, что ум и события ума имеют отношение к одним и тем же объектам. «Сходное наблюдаемое качество» отсылает к тому факту, что когда ум, скажем, осознает существование синего объекта, события ума сосредотачиваются на особых качествах этого же синего объекта. «Сходное время» означает, что ум и события ума обращаются объектам одновременно.
Что касается «сходного вещества», это функциональное соотношение подчеркивает, что ум, ассоциируемый с событиями ума, никогда не является чистым умом. Он несет в себе следы предыдущих ситуаций (помним ли мы о них или забыли), следы, которые не истощили себя в этих ситуациях и, следовательно, продолжают поиски новой ситуации, в которой они могут себя спроецировать. Гюнтер проясняет этот вопрос, переводя ум в данном контексте как «ментальное отношение». Именно к этому аспекту ума обращается школа Тхеравада, когда перечисляет 89 читт, состояний или настроений единой изначальной, чистой читты64.
Это воззрение тхеравадинов помогает нам понять выражение «сходное вещество». Если кто-то воспринимает объект, к примеру, с гневом, то все события ума, возникающие в данной ситуации, также будут нагружены гневом (так сказать). То есть, если мы смотрим на что-то с гневом, возникнут разные события ума: «Как он уродлив, как глуп, как неприятен!», – которые будут одной природы или из одного «вещества» (хотя это и не слишком удачное выражение). Если объект окрашен умом, он окрашен более специфически событиями или функциями ума. Это справедливо и по отношению к сложным эмоциям: если ум полон смешанных чувств, и события ума будут полны смешанных чувств. Однако в то время как Тхеравада сосредотачивается на различных формах, которые принимает ум – будет ли это ум-с-гневом, ум-с-цеплянием, ум-плана-формы или даже ум-бесформенного плана, – школы Сарвастивада и Йогачара больше озабочены единством ума.
Автор «Абхидхармасамуччаи», Асанга, приходит к несколько иному списку функциональных соотношений, заменяя «сходную основу» на «сходные сферы и уровни»65. Выражение «сходные сферы и уровни» имеет отношение к возможности в медитации перейти в высшие измерения, которые качественно отличаются от повседневного опыта. Если ум человека пребывает в одном измерении, не может существовать событий ума, соответствующих иному измерению. Когда мы находимся в состоянии медитативного погружения, скажем, и, следовательно, пребываем в рупадхату (мире форм) или арупадхату (мире без форм), определенные виды событий ума, к примеру, гнев или цепляние, просто не возникнут. Они могут возникнуть лишь в связи с гневным или вожделеющим умом, а в момент, когда появляется гневный или вожделеющий ум, мы снова опускаемся в камадхату (мир желаний).
Это не означает, что неприятный опыт не может возникнуть время от времени даже в высших состояниях сознания. Такой опыт может составлять карма-випаку– то есть может быть результатом, скажем, гнева в прошлом. Но если мы не реагируем на этот опыт, не переживаем гнев дальше в результате этого неприятного опыта и, следовательно, не накапливаем свежую карму, тогда наша сфера или уровень сознания не испытывают его влияния.
Это обсуждение сфер и измерений погружает нас в область буддийской мысли, которой мы до этого касались лишь вкратце. Понятие о различных уделах опыта или существования можно принимать буквально, метафорически или даже психологически. За буквальным описанием мы можем вновь обратиться к Тибетскому колесу жизни, которое изображает шесть различных измерений: человеческое измерение, животное измерение, измерение богов, измерение воинственных титанов или асуров, адское измерение или измерение существ, которых мы называем голодными духами.
Буддийская космология рассматривает эти измерения как реально существующие и подразумевает возможность того, что можно переродиться в одном из них. Также можно считать, что эти измерения – символы различных состояний ума или внутренних состояний, которые находят отражение в нашем опыте внешнего мира, так что, к примеру, если мы гневны или несчастны, мир покажется нам адом. А если наш опыт утончен и полон блаженства, это будет находить отражение в опыте мира, который столь же приятен и прекрасен. Как говорит Сатана Мильтона в «Потерянном Рае»:
«…Он в себе
Обрел свое пространство и создать
В себе из Рая – Ад и Рай из Ада
Он может»66.
Как предполагает описание измерений в Тибетском колесе жизни, которое держит в лапах жадное чудовище по имени Время, эти измерения не являются неизменными. В буддийском понимании нет вечного проклятия или бесконечного райского блаженства. Наше рождение в каком-либо измерении – это результат нашей прошлой кармы, и наша жизнь в этом измерении продлится, лишь пока не исчерпана соответствующая карма-випака.
Еще одна традиционная классификация измерений трехчленна: камалока или камадхату, измерение чувственного опыта или желания, рупалока или рупадхату, измерение (архетипической) формы, и арупалока или арупадхату, «бесформенное» измерение или сфера. Камалока – это мир нашего повседневного опыта, рупалока или арупалока, которые в буддийской традиции называются «божественными измерениями», имеют отношение к опыту высших состояний сознания. Так что существует соответствие между этим представлением об измерениях и медитативным опытом. И снова, связь достигается посредством состояний ума. Мы рассмотрим это подробнее в следующей главе, когда будем рассматривать событие ума под названием «эмоциональный тон».
Если вернуться к двум различным перечням функциональных соотношений между умом и событиями ума, может показаться, что «сходные сферы и уровни» Асанги относятся к чему-то совсем иному, нежели функциональное соотношение, которое они заменяют, «сходная основа». Однако я бы предположил, что это на самом деле одно и то же. В случае с разными сферами и уровнями речь идет о разных уровнях чувственного восприятия. На уровне камалоки на арену вступают физические ощущения, в рупалоке – тонкие чувства, в то время как в арупалоке в каком-то смысле вообще нет чувств. Поэтому «сходная основа» и «сходные сферы и уровни», вероятно, представляют собой лишь различные способы рассмотрения одного и того же.
УмГлавное, что мы усвоили к этому моменту, – что «ум» в буддизме не является понятием, обозначающим конкретную вещь, объект, это относительное понятие. Ум – это отношение с объектом, осознание того, что объект здесь и является особым объектом. Поэтому ум или читта– это не пассивная регистрация или отражение вещей, это, так сказать, обращение к чему-то. Это одно из ключевых открытий Абхихармы.
Теперь, установив различие между умом и событиями ума, Еше Гьялцен продолжает далее размышлять о природе ума. Он начинает с трех определений восприятия из традиции Махаяны:
Что такое восприятие? Это отчетливое осознание того, что предстает перед умом.
«Панчаскандхапракарана»
Восприятие – это процесс выделения.
«Абхидхармакоша»
Индивидуализирующее восприятие посредством осознания чистого фактического присутствия объекта – это отличительная особенность ума67.
Гьялцаб
Это утверждение Гьялцаба, одного из учеников Цонкапы, соответствует собственному определению Еше Гьялцена: «Осознавать чистую фактичность и этость объекта – это ум». «Индивидуализирующее восприятие» – это восприятие, которое вычленяет определенный объект (этого человека, скажем, а не человека в целом). Так что понятие «ум» здесь не используется по отношению к просто чистому осознанию вещей – к тому, что психологи называют «осведомленностью о широте поля». Оно имеет отношение к процессу выделения, когда наше внимание фокусируется на одной-единственной вещи.
Словно, воспринимая вещи в целом, мы в некотором смысле пассивны, и то, что мы регистрируем подобным образом – это випака. Мы родились с чувствами в результате кармы, и органы чувств сами по себе, следовательно, являются випакой, как и переживания, переданные этими органами чувств в форме общих восприятий. Общее поле потенциальных чувственных объектов, которые нас окружают в данный момент – наш мир, – представляет собой плод предыдущей кармы. Но, как только начинается выделение (и это мое собственное заключение, которого нельзя найти в Абхидхарме), на арену обязательно выступает определенная мотивация. Это первый толчок, так сказать, свежей кармы.
Так что здесь мы опять видим, что ум активен. Ум, который ассоциирует себя с событиями ума, – это не пассивное, подобное зеркалу отражение того, что существует. Это не табула раса, словами английского философа Джона Локка, не черная восковая дощечка, на которой отпечатываются объекты восприятия. Так никогда не бывает, всегда есть некоторое движение то там, то здесь, пока наше внимание не привлекает определенный объект.
Именно обращение ума к определенном объекту ведет напрямую к тому, что Тхеравада называет джаваной68, состоянием «хотения», и именно на стадии джаваны в процессе восприятия создается карма. Каждый процесс восприятия включает эти два элемента: этап обращения к определенному объекту и, под влиянием этого, этап джаваны, на котором появляется воляили карма. Где прекращается процесс выделения и начинается собственно карма (в значении джаваны), будет трудно определить.
События умаОни – это все, что соответствует уму69.
«Панчаскандхапракарана»
Итак, события ума – это все, что соответствует общей природе ума. В каком-то смысле, они разделяют эту общую природу. Каков ум, таковы и события ума.
Ни один перечень событий ума не будет исчерпывающим, не всегда устойчивы и границы между ними. Любая их классификация – лишь средство для духовной практики, позволяющее нам дать временное наименование собственному опыту и, следовательно, дающее возможность нам преобразить свою жизнь. Об этом стоит всегда помнить. Как мы узнали, сарвастивадины насчитывают 46 событий ума, а тхеравадины выделяют 52. Однако йогачарины, чьей классификации мы следуем здесь, вычленяют 51 различное событие ума и разделяют их на шесть категорий: пять вездесущих событий ума, пять определяющих объект событий ума, одиннадцать положительных событий ума, шесть основных эмоций (преимущественно негативных событий ума), двадцать соседствующих эмоций (вторичных негативных событий ума) и четыре непостоянных события ума70