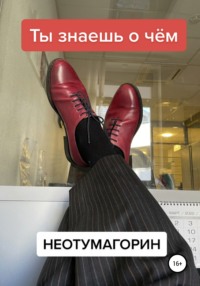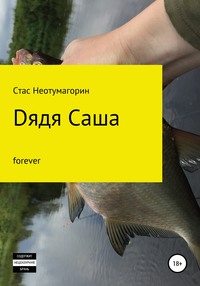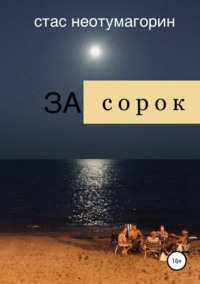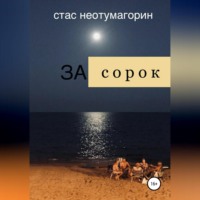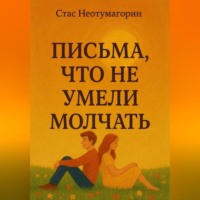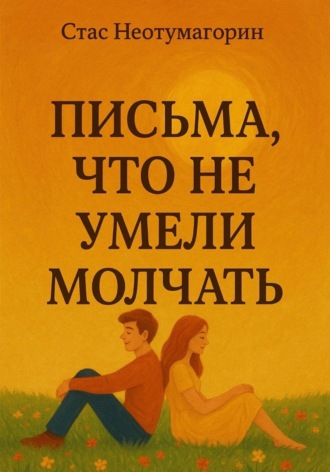
Полная версия
Письма, что не умели молчать
Рита заговорила только на третьей встрече. Про свою опухоль. Про химию. Про страх. Про то, как легко потерять себя, даже если у тебя хороший муж и красивый город за окном.
После встречи Елена подошла и тихо сказала:
– Пиши об этом. Ты умеешь. Иначе всё это будет зря.
Рита начала писать. В блокнот. Потом в ноутбук. Потом – в блог. На русском. «Женщина между странами». И вдруг оказалось, что у этих её слов – тысячи читательниц. Они присылали письма. Фотографии своих шрамов. Рецепты тыквенного супа. Ненависть к своим бывшим. И благодарность – за то, что кто-то говорит, как оно есть, без сиропа.
Елена стала ей чем-то вроде наставницы. Мудрая, но не менторская. Подруга, но не подружка. Иногда Рите казалось, что та читает её мысли, как черновик.
– Ты перестаёшь быть эмигранткой, когда находишь в себе родину, – сказала однажды Елена.
И это было правдой. Потому что Рита уже не боялась. Не потому, что страх исчез. А потому, что он стал не главным.
Конечно. Про сомнения – это всегда про границу между жизнью и текстом. Особенно когда начинаешь ощущать: чем честнее ты пишешь, тем больше людей тебя читают, но меньше ты остаёшься у себя внутри. Рита столкнулась именно с этим.
Сначала было ощущение полёта. Будто что-то в ней раскрылось – орган, спящий годами, вернулся к жизни. Рита писала ночами, по утрам, в кафе, в транспорте. Всё, что было пережито, переварено, изжито – превращалось в фразы. Она писала как дышала, и дышала – как писала. Слова становились костью, плотью, кожей. И подписчицы приходили, как подруги. Ставили сердечки, оставляли признания, признавались в вещах, которые, кажется, никому и никогда не говорили.
Она отвечала каждой. Ей казалось это честным. Как будто её долг – поддерживать, благодарить, быть живой и настоящей. Елена говорила:
– Будь осторожна. Не превращай себя в службу поддержки.
Но Рита не слушала. Она чувствовала себя нужной. Ей казалось, что теперь она, наконец, в этом мире на своём месте.
А потом пришёл вечер. Один из тех, что пахнет недосказанностью. Она листала комментарии под последним текстом – исповедь про то, как её тело изменилось после диагноза, и как Антон продолжал смотреть на неё, будто она всё ещё его начало. Один из комментариев был коротким, почти беззлобным:
«Ну и зачем так много личного? Это ведь интимное. Вам не кажется, что вы как будто раздеваетесь на публике?» Комментарий был анонимным. Может, написан с фейка. Но он вцепился в неё. Как кость в горле. Она почувствовала: да, она раздевается. Раз за разом. Медленно. На глазах у тысяч незнакомых женщин. Кто-то из них молчит. Кто-то аплодирует. А кто-то, может быть, наблюдает с холодной брезгливостью, как на вскрытии. Рита закрыла ноутбук. Она целый вечер ходила по квартире, не включая свет. Не могла понять, где закончилась исповедь и началась демонстрация. Антон вернулся поздно. С порога почувствовал: что-то не так.
– Ты где?
– Здесь, – голос Риты звучал не как голос, а как попытка вспомнить, зачем она вообще говорит.
Он подошёл. Обнял. Не задавал вопросов. Просто был рядом, пока она, почти шёпотом, выговаривала:
– Я не знаю, для кого я всё это делаю. Для них? Для себя? Я как будто превращаю жизнь в сериал. Важно ли это? Нужно ли? Или я просто торгую своим горем?
Антон долго молчал. Потом ответил почти грубо:
– Ты путаешь исповедь с проституцией. Грех не в том, чтобы быть обнажённой. Грех – в том, чтобы притворяться одетой. Ты же не врёшь?
– Нет…
– Тогда всё нормально. Никто не обязан тебя понимать. И ты никому ничего не должна. Только себе – не предавать голос.
Но она всё равно молчала следующие три дня. Не писала. Не заходила в блог. Не отвечала. Елена прислала короткое сообщение: «Ты там? Или уже спряталась?» – и Рита снова почувствовала, что кто-то держит её на поверхности.
На четвёртый день она написала текст. Без прикрас. Без украшений. Про этот самый страх: «Когда ты рассказываешь правду, но вдруг чувствуешь, что её читают те, кому она не принадлежит. Когда ты не уверена, что тебя читают, чтобы понять. А не просто употребить».
Она нажала «опубликовать». И не стала читать комментарии. Потому что это уже не имело значения. Она поняла главное: она пишет не потому что обязана, а потому что иначе – гниёт. И если уж тело ей простило химию, то душа должна простить себе обнажение.
А ещё она вспомнила, как в детстве боялась прыгать с высокого бортика в бассейн. И как отец тогда сказал: «Страх не повод не прыгать. Страх – это то, что делает прыжок настоящим».
И она прыгала.
Каждый раз, когда нажимала «опубликовать» – снова и снова. Потому что это был не блог. Это был крик живого существа: я ещё здесь.
Это пришло неожиданно. Как всё важное. Не с фанфарами, не с письмом на тиснёной бумаге. Просто однажды утром, пока Рита сидела на балконе с чашкой кофе и мыслями о том, что надо бы протереть окна, пришло письмо.
Темой значилось: «Предложение по сотрудничеству. Издательство «Четвёртый Лист»».
Сначала она подумала – спам. Или фишинг. Или очередная псевдо – редакторская рассылка в духе: «Оплатите макет – и мы вас опубликуем». Но адрес был живой, реальный. И подпись – настоящая, с именем, фамилией, ссылающейся на женщину, которую она когда-то мельком видела в каком-то подкасте о современных русскоязычных авторах за рубежом.
Тело реагировало первым – сердце будто подскочило к ключицам. Но голова сразу надела каску скепсиса.
Она прочитала письмо трижды. Короткое, аккуратное, без лести:
«Рита, добрый день. Я редактор независимого издательства. Мы следим за вашим блогом уже давно. Несколько текстов цитировались в закрытом читательском клубе, и вызвали сильную реакцию. Мы видим в вас голос – не «женский» и не «эмигрантский», а просто честный. Хотим предложить вам собрать тексты в книгу. Не автобиографию, не роман, не сборник эссе – а то, что у вас и так уже есть. Скелет живой речи. Условия – нормальные. Авторские права за вами. Мы делаем всё. От вас – тексты и доверие. Если интересно – давайте созвонимся».
Подпись: Марина Алимова.
Рита пошла на пробежку. Без наушников. Чтобы услышать, как внутри говорят страх и восторг. Один твердил: «ты ещё не готова, кому это вообще нужно». Другой – лениво улыбался и шептал: «ты уже давно готова, просто не решалась вслух».
Она вернулась домой, не раздеваясь, написала в ответ: давайте созвонимся. Через два дня они говорили по видео. Марина была в библиотеке – на фоне книги, лампа, стеклянная кружка. Рита – с собранными волосами и дрожью в пальцах.
– Вы правда хотите издать это? – спросила она.
– Да. И не потому что вы «пережили», «выстояли», «нашли голос». Не потому что вы женщина в эмиграции с тяжёлым диагнозом. Это всё – лишь контекст. А мы хотим издать вас потому, что вы умеете писать так, что читатель замолкает. И слышит. Самого себя.
Это было не лестью. Это было диагнозом.
Процесс пошёл быстро. Она прислала тексты. Марина выбрала сорок два. Они вместе выстроили их в хронологию внутреннего взросления. От «я боюсь», до «я осталась жива». Писать предисловие Рита отказалась – это казалось ей пошлым. Но послесловие написала. Короткое. Без драм.
«Когда ты пишешь – ты говоришь с той частью себя, которая ещё не разучилась дышать. Эта книга – мой способ дышать при вас».
Название пришло откуда-то сбоку, почти как случайный взгляд в зеркало: «Воздух между строк». Так она и чувствовала: главное – не слова. Главное – то, что между ними.
Антон читал тексты молча. Иногда усмехался. Иногда кивал. Иногда просто обнимал – потому что там, в этих текстах, он был. И как мужчина, и как спасательный круг, и как фон.
Когда книга вышла, ей прислали первый экземпляр в твёрдой обложке. Он пах типографской краской и чем-то неуловимо московским – как будто оттуда, из другой жизни, ей пришло подтверждение, что всё не зря. Она не плакала. Просто долго держала книгу на коленях. Как ребёнка, которого родила без крика.
А потом случилось неожиданное.
Её начали приглашать на чтения. На Zoom-конференции. В русские клубы в Берлине, Тель – Авиве, Риге. Где-то просто слушали. Где-то плакали. Где-то спорили – особенно когда она читала тексты про тело. Про то, как его предательство оказалось честнее многих человеческих обещаний.
Один вечер в Мадриде, в крошечном кафе, стал для неё моментом истины. После чтения подошла женщина лет пятидесяти. В очках, с тонкими руками, в которых дрожала кружка с вином.
– Спасибо вам. Я молчала почти двадцать лет. А после вашего текста о химиотерапии – написала письмо дочери. Первое за шесть лет.
Рита тогда впервые осознала: книга – это не про неё. Это про тех, кто всё ещё жив, несмотря ни на что.
Позже она написала Елене: я теперь понимаю, что значит – «писать себя». Это как строить мост через реку, которую никто не хочет переходить, но все стоят у берега.
Елена ответила через сутки: пиши дальше. Иначе всё это зря.
***
Утро входит в комнату не через окно, а через щель под дверью – тихим, настойчивым существом, чтобы напомнить: пора снова собирать себя из осколков ночи и солнечных пятен на простыне. Эти пятна – как закаты: их нельзя удержать в ладонях, только принять, ощутить кожей их мимолётную теплоту. И в этом жесте – вся её суть. Женщина, что не про драму и не про иллюзии, а про то глубинное, неугасимое тепло под ребром, которое мир так и не смог отнять.
Это тепло и рождает тихую дерзость пожелать себе дня, который смотрит влюблёнными глазами. Где волосы ложатся послушно, кофе бодрит ровно настолько, чтобы чувствовать жизнь, а не гнать её, и где чужие руки не лезут в душу с грубыми советами. Если же мир опять попытается поучить жить – ему вежливо, но твёрдо укажут на дверь. Эта способность – отгораживаться тишиной – и есть главный утренний ритуал. Не нужно никуда красться – можно просто замереть у края кровати и услышать, как бьётся сердце. Увидеть, как ресницы отбрасывают на щеки кружевные тени. Это и есть та самая царская привилегия – позволить себе пять минут чистой, ни к чему не обязывающей нежности.
От этого тихого удивления самой себе и рождается смелость вести себя – за руку – по аллее собственных, самых дерзких желаний. Останавливаться у каждого, поливать, шептать: «Раскройся. Я здесь, чтобы собрать росу будущих побед». Это и есть высшая наука наслаждения – находить не в громком, а в малом. В глубине собственного взгляда в зеркале. В чашке чая, пахнущей не просто ягодами, а памятью о том самом летнем утре. В собственном смехе, который звучит всё более раскованно, напоминая: жизнь – не закат, а рассвет новых, куда более глубоких удовольствий.
И если что-то уходит, а оно уходит – это не ощущается как катастрофа. Скорее, как естественная осень. Та, где из гардероба ещё не достали шарф, упрямо веря в возвращение тепла. Всё пройденное становится как отзвук аромата на шее – после него все другие кажутся чужими, наносными. И это не повод цепляться за прошлое. Это повод бережно хранить его крупицы: эхо голоса в тишине, случайные строчки в блокноте, отражение ресниц на щеке -чтобы было куда мысленно вернуться, когда некому прикоснуться так, как это умеешь ты сама.
Именно из этого складывается настоящий шик – не нарядный, а жизненно важный. Это та самая роскошь -позволить себе наконец расслабиться. Снять доспехи, скинуть с плеч плащ силы, который врезался в кожу. Перестать всё контролировать, потому что пришло умение удивлять саму себя – не масштабом, а точностью жеста. Вот она – та самая чашка с трещинкой, но любимая. Вот – лёгкое прикосновение к собственной уставшей стопе, знак признания её пути. Вот – тихая готовность взять на себя тяжелый разговор, потому что «сейчас не до того» – это не слабость, а право.
Так и рождается та самая, ни на что не похожая женская чувственность. Когда не ждёшь одобрения и не выпрашиваешь любовь у мира. Просто делаешь. Потому что хочешь. И это чувствуется на расстоянии – это не про деньги, а про свободу. Про снятие векового страха, этой впитанной с молоком матери экономии на чувствах: «на чёрный день», «как-нибудь обойдусь». Нет. Не обойдёшься. Не сегодня. Сегодня – получаешь всё. Потому что заслужила. Потому что решилась.
И потому, пусть в этом дне найдётся место не только подвигу, но и ласке. Не только урагану, но и тёплому ветру. Пусть в тишине прозвучит чей-то голос, шепчущий «ты прекрасна» – без причины, просто так. Пусть окружающий шум не заглушит голос собственного желания. И пусть ты сама себе будешь не строгим судьёй, а той самой доброй, ласковой женщиной, которая умеет прощать, себя в первую очередь. Именно с этого и начинается настоящий рассвет. Твой рассвет.
***
Она появилась как тень – сначала в комментариях. Потом в директе. Потом – как чувство, которое не просишь, но которое не уходит.
Звали её Алена. Профиль в Нельзяграме – закрытый. На аватарке черно – белая фотография, старая, скорее всего, обрезанная откуда-то, где были и другие лица. В первом сообщении – благодарность: «Спасибо за текст про волосы. Я тоже брилась на кухне. Одна. Потому что муж ушёл на третий день после диагноза».
Рита перечитала сообщение несколько раз. Писать что-то казённое вроде «держитесь» не поднималась рука. Писать «я вас понимаю» – враньё. Никто никого не понимает полностью. Но в этой боли была интонация, узнаваемая до дрожи.
Она ответила коротко: «Я не знаю, что сказать. Но я здесь».
Так завязалась переписка. Медленная. Без истерики. Как диалог двух женщин, стоящих на перроне, куда больше не приходит поезд, но они всё равно надеются.
Алена оказалась врачом. Онкологом. То есть тем самым человеком, который до недавнего времени каждый день говорил другим: «мы начнём с химии». И вдруг сама – пациентка. «Это как если бы хирург сам ложился на свой же стол», – написала она. И добавила: «Врач, у которого опухоль, – это как священник, который потерял веру. Я не знаю, как быть. Я знаю протокол. Но не знаю, как быть собой. Я – не я теперь».
Рита не писала, а отвечала голосом. Так теплее. Так меньше похоже на переписку. Так больше – на разговор у чайника. Они говорили о страхе. О том, как волосы – это вообще не про волосы. О том, как люди исчезают, не зная, что сказать. И как они не виноваты – но всё равно больно.
Алена присылала голосовые редко. Она говорила медленно, будто каждое слово выбиралось с усилием. Было ощущение, что она всё время где-то за гранью дозволенного – будто в ней внутри есть вещь, которую лучше бы не трогать. Но однажды она прислала фотографию.
Это был сад. Сухой, испанский, в пыли и апельсиновых листьях. На старом шезлонге – стопка книг. Сверху – «Воздух между строк». Открытая. На главе «Как мы молчим вместе». Подпись к фото: «Я читаю, чтобы вспомнить, что я не исчезла. Спасибо, что пишешь. Мне стало меньше страшно быть живой».
Рита заплакала впервые за много месяцев.
Прошло несколько недель. Потом – тишина. Сообщения остались без ответа. Профиль исчез. Как будто её никогда не было.
Рита написала Марине Алимовой: «Можно ли добавить в переиздание один текст?» – и в ту же ночь написала то, что не могло больше ждать.
Она была женщиной, врачом, читательницей, и – возможно – призраком. Я не знаю, где она. Может быть, она рядом. А может – нет. Но её голос останется со мной. Потому что иногда мы пишем не книги. Мы пишем – мосты. По ним кто-то переходит. А кто-то – уходит.
Эта книга – для неё.;Чтобы никто не думал, что пропал бесследно.
Это предложение пришло не в письме, а в разговоре. За вином, в шумном мадридском баре района Саламанка, где за соседним столиком кто-то громко декламировал стихи, а официантка напевала под нос фламенко.
Риту пригласили выступить на литературной встрече русскоязычных авторов. Она ехала туда с лёгким скепсисом. Ну кто эти люди? У кого из них текст не похож на выжимку из глянца или невроз в обёртке самопомощи? Но среди читающих оказался один, с другим дыханием.
Мужчина лет сорока, с тяжёлым взглядом. Его звали Илья Арнольдович, но все звали просто – Илья. Он не читал, он разговаривал. Медленно, как будто привык к тому, что его перебивают, и теперь позволял себе быть услышанным.
После чтения он подошёл к ней. Без визитки. Просто сказал:
– Ваш текст звучит как кино. Не потому, что в нём события. А потому, что в нём тишина, которая двигает сюжет. Это редко. Обычно наоборот.
Рита чуть не рассмеялась. Она не привыкла к фразам, которые звучат как признания без поцелуев.
– Это комплимент или попытка вербовки?
– И то, и другое. Я хочу экранизировать вашу книгу. Не целиком. Но в ней есть история, от которой невозможно уйти.
– Какая?
– Женщина, исчезнувшая после писем. Алена.
Тогда она почувствовала, как в теле начинает подниматься всё то, что она закопала глубоко. Не ради забыть – ради выжить.
– Это история реальная.
– Самые хорошие фильмы – всегда про реальное. Даже если там инопланетяне.
Он протянул ей руку. Без лишних слов. Пальцы были горячими, ладонь широкая. Рита не верила. Ни в кино, ни в продюсеров, ни в то, что это может быть красиво. Но что-то в его голосе напоминало: если ты не дашь этой истории новое тело, она начнёт умирать внутри тебя.
Сценарий писали вместе. Он накидывал структуру, она переписывала диалоги. Сцена, где Рита (героиню тоже звали Рита) говорит на диктофон текст, зная, что его больше никто не услышит, рождалась неделю. Антон читал и не комментировал. Лишь в какой-то момент сказал:
– Ты пишешь фильм не о ней. А о себе. Как бы ты хотела, чтобы тебя спасли.
Рита вздрогнула. Да, это правда. Алена – это крик той части её, которую не успели спасти. Которую нужно воскресить хотя бы так – в камере, в актрисе, в чужом дыхании, но с её интонацией.
Кастинг тянулся мучительно. Никто не подходил. Все играли. А Рите нужно было, чтобы просто жили. Чтобы глаза актрисы помнили химию и отчаяние. Чтобы тело не кричало о красоте, а умело молчать красиво.
А потом появилась она. Не молодая. Не хрупкая. Не та, о которой пишут на постерах. Но с дыханием, будто она каждый кадр выдыхает прощение. Её звали Нина.
На пробах она просто произнесла: «Я брилась одна. Потому что муж ушёл. На третий день». И в комнате стало тихо. Рита не заплакала. Она просто вышла в коридор и написала одно слово Илье: «Нина».
Съёмки проходили в Севилье. На чёрной кухне, с пыльными окнами. Алена оживала, не как персонаж – как боль. Как женщина, которую все забыли, но чьё тело продолжало ждать.
В последней сцене героиня садилась на скамейку и открывала книгу. Не читала. Просто держала. И было ощущение, что через неё проходит не воздух – память.
Когда фильм вышел, Рита не пошла на премьеру. Она смотрела его дома, в пледе, с Антоном. Он держал её за руку. Она не плакала. Только в одной сцене – где актриса, с лысой головой, шепчет в темноте: «Я просто хотела, чтобы кто-нибудь услышал, что я всё ещё живая».
Антон тогда сказал:
– Это не кино. Это молитва.
Рита кивнула.
Фильм взял приз в Венеции. Потом – в Тель-Авиве. В России его не показали. Слишком тихий, слишком личный. Но ей было всё равно. Потому что она получила письмо.
С незнакомого адреса. Без подписи.
Просто:
«Я видела. Спасибо, что оставили меня в живых. А.»
Это письмо пришло осенью. Когда в Испании уже пахнет опавшими листьями, но ты всё ещё в сандалиях. У Риты было странное чувство: как будто мир стал тише, но внутри – наоборот. Внутри шумело.
Фильм отгремел. В интервью она говорила мало. Выбирала слова, как будто на весах: одно слово – одна история. Она устала. Не физически – по-другому. Устала быть «той самой Ритой», у которой «такой текст» и «такой фильм» и «такая история». Всё это было правдой. Но усталость тоже была правдой.
Она хотела исчезнуть. И не могла. Потому что теперь у неё была ответственность за живых.
И вот – письмо.
Адрес без имени. Тема: Вы не знаете меня.
«Здравствуйте. Простите за смелость. Я не уверена, что имею право. Меня зовут Лена. Мне 27. Я – дочь Алены. Той самой. Я узнала о фильме случайно. Подруга прислала ссылку. Я не сразу поняла. Потом – узнала голос. И фотографию книги. И сцену с бритой головой. Я смотрела в одиночестве. И не могла дышать. Моя мама умерла. Почти два года назад. В хосписе. Она просила не звонить никому. Сказала – всё уже было. Сказала, что больше не хочет слов.
У нас были сложные отношения. Я убежала в восемнадцать. Но однажды она прислала мне письмо. Уже после диагноза. Написала, что впервые в жизни говорит с собой честно. Там были строки, почти дословно совпадающие с теми, что вы написали.
Это не упрёк. Это благодарность. Спасибо, что услышали её. Спасибо, что дали ей остаться. Я смотрела фильм, и впервые не злилась на неё. Я увидела её – не как мать, которая не справилась, а как женщину, которая прожила столько боли и не озлобилась.
Я просто хотела сказать: вы не знаете, как много сделали. И если вы не против… я бы хотела поговорить с вами. Не как дочь. А как человек, который ищет способ простить и быть прощённой».
Рита перечитала письмо трижды. В груди поднималось чувство, как после сна, где ты обнял кого-то умершего – и теперь не знаешь, просыпаться или остаться там.
Антон был на кухне. Она подошла, молча протянула телефон. Он читал долго.
Потом посмотрел на неё:
– Ты ответишь?
– Да.
– Боишься?
– Очень. Это уже не литература. Это… что-то, что нельзя выдумать. Это как если бы твой текст завёл ребёнка.
Они встретились в Барселоне. Кафе было шумное, с видом на порт. Лена пришла в простом чёрном пальто. Без макияжа. С глазами, в которых кто-то жил, и кто-то умер.
Они не обнялись. Просто сели. И замолчали.
– Она читала вас, – сказала Лена. – Я помню. У неё был блокнот. Она переписывала от руки фразы. Не потому что не доверяла гаджетам. А потому что хотела, чтобы слово дышало на бумаге.
Рита кивнула.
– Я её любила, – добавила Лена. – По-своему.
– Это самое трудное: любить по-своему, – ответила Рита.
Они проговорили два часа. Не всё подряд. А как будто пеленгами. Вспышки. Паузы. Ощущение, что обе не столько разговаривают, сколько разгребают внутренние завалы, освобождая место под дыхание.
В какой-то момент Лена достала фотографию. Маленькую, старую. Там Алена – ещё с волосами, с дочкой на руках. Они смотрят в объектив. Глаза у обеих – как у тех, кто знает: всё кончится, но сейчас – вместе.
– Я думала, я её потеряла, – сказала Лена. – А потом… увидела в фильме.
– Она вернулась, – сказала Рита. – Чтобы простить. И быть прощённой.
Лена заплакала. Беззвучно. Словно внутри неё оттаивало то, что было заперто годами. Потом встала.
– Мне нужно идти.
– Конечно.
– Можно я… обниму вас?
Объятие было коротким. Но таким, после которого долго не дышишь.
Когда Лена ушла, Рита осталась сидеть у окна. Смотрела на воду. На чаек. На мир, где мёртвые иногда возвращаются, чтобы сказать: спасибо.
Антон потом спросил:
– Как ты?
– Я будто выдохнула кого-то, кто давно жил во мне.
Он обнял её.
И прошептал:
– Ты больше, чем автор.
Ты – пространство, где живые и мёртвые могут встретиться.
Они встретились снова через неделю. В том же кафе, у окна, но теперь снаружи уже накрапывал дождь – тот самый, барселонский, будто не дождь вовсе, а вздохи старой женщины, которая помнит всё и молчит об этом.
Лена пришла с сумкой – грубой, кожаной, потёртой, явно не из модных. Она держала её на коленях, будто на руках младенец. Слово «наследие» здесь казалось неприличным. Это было не оно. Это было… сердце, которое ещё бьётся, но уже не у твоей груди.
– Я не знала, как сказать, – начала Лена. – Они были у неё в коробке, подписанной «не читать до смерти».
– И ты…
– Я открыла после похорон. Сначала не смогла. Потом – не смогла не.
***
Кофе остывает быстрее, чем можно успеть подумать о смысле дня. В этом есть намёк: всё, что ценно, всегда ускользает, если слишком долго отвлекаться. Может, поэтому я и не люблю горячее – в холоде вещей слышнее их подлинный вкус.
После дождя бывает радуга. Иногда две. Я всегда смотрела на неё не как на знак, а как на вызов. Радуга – это врата: пройди под ней, и мир спросит тебя вслух – «готова ли ты жить ярко, нелепо, до боли честно?». Большинство прячут глаза. Я никогда не прятала.
Женщины делают утро. Я делаю утро. Масло на хлеб, крем на ключицы, взгляд в окно, где небо ещё сырое, как акварель на мокрой бумаге. Это мой ритуал власти: я могу соткать день из пальцев и дыхания. Мужчины часто не понимают этого. Им кажется, что красота рождается в их взгляде. Нет. Красота рождается в моей готовности быть живой.
Жизнь похожа на танец с чертями. Ты знаешь шаги, но партнёры меняются. И если боишься ошибиться, ты обречена топтаться на месте. Я не хочу стоять. Я хочу идти. Даже если ритм ломается. Даже если в какой-то момент остаёшься одна.