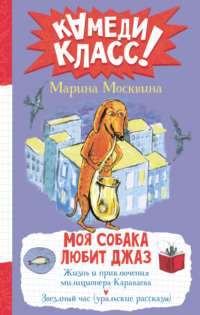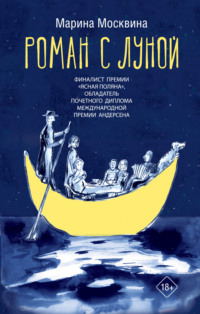Полная версия
Крио
В зале царило приподнятое настроение. Все ждали докладчика – Василия Шумкина. Макар не раз встречал его на Золотом Рожке, в чайной Горяченкова. На самом деле этот “зоолог” был пролетарский большевик, старый подпольщик по кличке Фу-Фу. Как часто, думая о чем-то своем, он повторял: “Фу-фу, все кончится печально…” Эта поговорка сохранилась у него с времен ссылки, за что его и прозвали Фу-Фу. Ни жены, ни подруги, ни постоянного угла, вечно полуголодный, на грани провала, он положительно слился с партийной революционной работой. При этом в Сибири охотники подарили Василию двух медвежат. Сколько шума и тревог натворили они втроем в Москве! (Через много лет посетители московского зоопарка бывали свидетелями бурных встреч двух матерых косматых медведей с пожилым коренастым мужичком, бородатым и в кепке.)
Василий Григорьевич храбро взошел на дощатый помост, откашлялся и произнес в наступившей тишине:
– Если мы заглянем в улей… – дальше он уткнулся глазами в пол и начал переминаться с ноги на ногу.
Все уставились на его сапоги – хромовые с “гамбургскими передами”, явно кем-то одолженные Фу-Фу для доклада вместе с зефировой полосатой рубашкой и галстуком-регатой поверх отложного воротника.
– Если мы заглянем в улей… – повторил он.
– То нашему докладчику всю рожу разукрасят, – крикнул кто-то из оппозиции.
Часть зала засмеялась, остальные зашикали.
– …то обнаружим, – повел-таки свой рассказ Василий, – что улей состоит из царицы, из тысячи работниц и нескольких сотен трутней…
“Нужно было присутствовать на этой лекции, – писал в своей книге Макар, – чтобы видеть, с каким подъемом читал ее товарищ Шумкин и с каким напряженным вниманием слушали его рабочие. Когда Василий Григорьевич растолковывал присутствующим о переселении мышей, то не иначе как «стройными колоннами, организованной массой, они передвигались, не страшась коварных классовых врагов». Если затрагивал устройство пчелиных сот, употреблял такие образные сравнения: «Пчелы – это пролетариат, идущий сомкнутыми рядами на борьбу с врагом под лозунгом: все за одного и один за всех!»”.
– А толстые и прожорливые трутни, – рассуждал он, – это эксплуататоры-капиталисты, которые живут на всем готовом, праздные бездельники, грабители и паразиты!
Василий Григорьевич до того преувеличенно восславлял трудовую пчелу и костерил праздных трутней, отыскивая для них какие-то особенно уничижительные эпитеты, что пристав несколько раз вскакивал со стула и предупреждал: если докладчик и дальше собирается действовать подобным образом, лекцию придется прекратить.
– Я только хотел заметить, господин пристав, – дружелюбно отозвался Шумкин, – что близится роковой час, когда, фу-фу, все кончится печально, лопнет пчелиное терпение, и тысячи жал поднимутся на притеснителей, чтобы свести счеты с этими сукиными детьми. А добиться победы трудовая пчела сможет лишь тогда, когда весь рой тесно сплотится вокруг одной партии…
– …РСДРП! – не выдержал пуговичник Коля Балакирев.
– Это провокация! – загомонили отсталые элементы. – Кончай пропаганду!
Рабочие просили продолжать, чувствуя в словах Фу-Фу горькую неприкрытую правду. Но Шумкин насупился, свел свои медвежьи брови и заявил, что лектор не прибор, который рубильником повернул, он и начал говорить, а здесь есть некоторые люди, умышленно нарушающие работу мысли, так что лекция окончена.
Народ не захотел сразу разойтись, стали выяснять у Василия, где можно послушать его реляции о насекомых, о рабочих пчелах и борьбе с трутнями.
Тут выскочил Макар и попросил Шумкина разрешить ему зачитать стих собственного изготовления, крик, можно сказать, измученной души – в порядке довеска к докладу?
– А почему нет, – ухмыльнулся в бороду Василий, – читай, раз грамотный, небось, про любовь? Дадим молодежи дорогу? – спросил у пристава Шумкин, но тот сделал вид, что ему все равно, так как он здесь по другому делу и лирикой не интересуется.
Макар вытащил тетрадку, свернутую в трубку, сжал ее в кулаке и начал:
Я родился на задворкахВ земляной сырой каморке.Мой отец рабочий был,Он на фабрике служил.– Ишь ты, каков! Кто таков? – пробормотал Шумкин, разглядывая взбудораженного Макара с маленьким ядерным реактором внутри.
Возрастал я без надзора,Предоставлен сам себе.И собак дворняжек свораБыли братья голытьбе.Во втором ряду засмеялся один рабочий, ему, видимо, была хорошо знакома эта компания. А Макар знай себе набирал обороты:
Помню гулкий и унылыйКолокольный звон.Один царь ушел в могилу,Другой занял трон.Давку на Ходынском поле,Трупы мертвецов,Ледяное горя мореДедов и отцов.Началась война с японцем,Мы сушили якоря.Дым поднялся выше солнцаНад кормою корабля.В ушах у него гудело, как во время урагана, он сменил ритм на всем скаку и возвысил слог:
Но японцы – в пяле и мялеНе сдавались нам, самураи,Как пошли наши суда топить,Русский флот удалось им разбить.Порт-Артур, Мукден и Стессель…И “Кореец”, и “Варяг”.Сколько спето было песен,Сколько вытерпел моряк!В гробовой тишине, в бездне пламенного света Макар поднял руку с тетрадкой и прижал ее к груди, лицо его побелело, он стал похож на статую Цицерона на площади Юстиции в Риме.
В девятьсот пятом году,В январе, девятогоРасстреляла мирных гражданСолдатня проклятая.Серый пристав вскочил со стула и рванулся к помосту. Но зрители на первых рядах не раздвинулись, наоборот, заслонили спинами проход. Атмосфера до того накалилась, вот-вот взорвется. А Макар поддавал пару:
Царь рабочих угостилРужьями и пушками.Снег январский окропилКровью безоружных.Хитрый Шумкин, видя, что дело принимает непростой оборот, спрыгнул со сцены (“я тут ни при чем!”) и растворился среди рабочих, внимавших пииту. А грозный пристав, потерявши дар речи от наглости молодого горлодера, кряхтя, взобрался на помост, выхватил у Макара тетрадку, сцапал его за вихор и потащил вон.
Но все-таки зрители услыхали последний, заключительный “катрен” Стожарова:
Обретай в борьбеТы свои праваИ свергай скорейКровавого царя!Его выступление имело ошеломительный успех, громоподобный. Под свист, аплодисменты и радостные вопли пристав поверг Макара на пол и стал бить по голове его же дерматиновой тетрадкой, приговаривая: ах ты, шельма, … твою мать, ты это что тут написал, засранец эдакий!
– Ну просто Петрушка и городовой, ой, пропала его головушка с колпачком и кисточкой! Конец представления, фу-фу, все кончится печально… – сказал Шумкин, резюмируя происходящее.
Видя смешное свое положение, пристав бросил тетрадку, отпустил Макара, плюнул в сердцах и сошел в зал.
Стожаров встал, отряхнул пиджачишко и поклонился зрителям.
“Вот и вылупился, – подумал он, – что теперь будет?”
Зюся рисовал скрипку с утра до вечера, в разных ракурсах, целиком и фрагментами, больше тысячи раз он изобразил ее, сперва копируя чертежи из старинных книг Джованни Феррони, а когда старика потянуло домой, в Италию, к могилам предков, и он исчез в полосе неразличимости, то – плотницким карандашом вычерчивал на деревяшке Зюся до боли знакомый стан Доры, поскольку хорошо усвоил, что форма корпуса должна иметь прямые закругленные плечи, талию для улучшения резонанса и удобства игры (особенно в высоких позициях!), плавный контур бедер. И ему не нужен был циркуль, чтобы провести эти волнующие вечные линии.
– “Мой маленький Соломон плывет за несбыточной мечтой…” – пела Дора за шитьем – со своим необъятным вырезом, за которым пламенела ее пышущая плоть.
Как ей хотелось, чтобы Зюся побольше бросал в ее сторону пылких взглядов. А этот сухарь, длинноногий циркуль, в заляпанном фартуке, белом колпаке, склонится над верстаком, в башке одни чертежи и расчеты – как выдолбить арку и выскоблить деки да вырезать эфы! Воздух вокруг наэлектризованный, густой, шуршат резцы и ножи, придавая верхней и нижней декам единственно возможную толщину, освобождая звук из плена темной материи.
– Чтоб инструмент у тебя зазвучал с огоньком, ядри его бабушку, – говорил Джованни, с наслаждением раскуривая трубочку, – ты должен строить его, как строят храм: фундамент, стены, своды, купола, соблюдая ту же гармонию, меру и порядок, которым повинуется все в Природе – от кристаллов до галактик. Это божественная пропорция, mia artigiano, мы находим ее в изгибах морской раковины, в контуре цветка, в облике жука и – да! в очертаниях человеческого тела…
Зюсик был подходящим сосудом для его учения. Кто мог подумать! Ни дедушка Меер, ни Хая Ароновна, ни клезмер Блюмкин – что этот несмышленыш станет самым желанным мастером во всей округе. После того как Феррони отбыл в Кремону, Зюсе перешли все его заказы. Музыканты в очередь к нему выстраивались. Никто из окрестных мастеров не ловил, как Зюся, искры с неба, не добивался такой певучести и гибкости, беспрерывной работы обертонов, летящих октав…
А он искал ту одну, непостижимую скрипку, готов был не спать – не пить – не есть, лишь бы печенкой ощутить живой и сочный тембр, дыхание, кровообращение, иерархию голосов, дуновение ветра – больше ничего! Забросил заказы, хозяйство, меньше стал уделять внимания Голубке, своей любимице, чалой корове.
– Везде – я да я, – жаловалась певунья Дора. – Строгальщик! Вторую неделю едим рыбные галушки из мелюзги. Ухватишь ты с этой скрипкой черта за рога!
– Рад бы ухватить, – отвечал Зюся, – да руки коротки!
Он узнавал во всем ее приветный гудящий голос, богатый, сумрачный, величавый, бархатный, глуховатый – в кудахтанье, ржанье, перестуке колес… Жаворонки, соловьи, степные кузнечики и домашний сверчок, зяблики и пересмешники – все колебания мира Зюсик норовил превратить в пение своей скрипки, забыв о том, что он простой подмастерье под главным Скрипичным Мастером, под истинным Тем, кто Творец всего.
Двадцать лет Зюся корпел над ней.
Если я расскажу во всех подробностях Зюсину одиссею, вы с ума сойдете.
И что вы думаете? Он вымолил ее у Судьбы.
Небо и Земля соединились в той самой пропорции, без которой не мыслили своей жизни скрипичные патриархи Кремоны, когда чудесная скрипка возникла в его руках, как особая сфера вселенной, и Зюся услышал долю того напева, под звуки которого Бог сотворил мир. Поздним вечером его резец вывел вязью “Год 1905 Зюся…”.
Пожалуй, он ее и сам понимал не до конца. Происходили немыслимые вещи: ты только прикоснешься к струне – к одной струне! – и начиналось густое оркестровое звучание. Как будто это не один инструмент, а целый оркестр, да какой!..
“Ясной и сияющей судьбоносной осенью пятого года во всю величину встал вопрос о вооружении”, – написал в своем дневнике Макар, поднялся с деревянного стула, вышел в город и влился в толпу рабочих Губкина – Кузнецова под красным знаменем в тот самый момент, когда Мадхава и Пандава, стоя в колеснице, запряженной белыми лошадьми, вострубили в божественные раковины.
Городовые попрятались в подворотнях, обыватели старались носа не высовывать из квартир. От завода к заводу: рабочие Киббеля, Каравана, Казвинного склада, заводов Перенуд, Дангауэра, фабрик Остроумова, Келлера, Чепелевецкого, Фишера, Хлебникова выходили из цехов и вставали под красное знамя. С песнями пошли снимать рабочих фабрики Катык. Вместе с ними остановили кондитерскую фабрику Жукова. Стала и фабрика Григорьева. На стеариновом заводе Свешникова началась “перестрелка” камнями: часть рабочих и служащих отказывались прекратить работу. Вмиг мостовая была разобрана, и тучи камней полетели в здание конторы, зазвенели разбитые стекла, открылись ворота, и рабочие вышли на улицу.
– Идем Гужон останавливать! Даешь стачку! Долой самодержавие! Кончай работать, гужееды! Победа или смерть!
Свист, крики, грохот вальцовок – все слилось в единый зловещий гул. С железнодорожной насыпи полетели камни на двор завода. В ответ оттуда – гайки, куски железа. Сам Гужон затрубил в огромную раковину Паундру, призывая своих рабочих биться с бунтовщиками. На зов хозяина явились жилистые кряжистые рабочие тянульного отделения с молотами в руках.
Никита Белов из чаеразвески предводительствовал ордой повстанцев. На гребне вплывая в проломанные ворота, он воодушевлял толпу криком: “Сюда, товарищи!” Макар первым ворвался в здание завода, его там сильно помяли, вывихнули плечо и рассекли губу. Тут вырос как из-под земли Гужон с револьвером и выстрелил в Никиту Белова.
(Впоследствии при осмотре холодного тела Никиты в кармане у него оказались книжка песен “Разлука”, паспорт под номером 836 и пустой кошелек.)
Следом прогремело еще несколько выстрелов. Кто-то закричал: “Казаки едут!” Замелькали в воздухе нагайки. Все побежали врассыпную и вновь соединились на улице Пустой. Шли под развернутыми знаменами, Аким Кретов и Макар запевали, остальные подтягивали. Внезапно из-за угла на них налетели черносотенцы – только быстрые ноги спасли Макара от гибели. Но и на следующий день, и потом он был в самом водовороте беспорядков.
В Москве нет воды, хлеба, газеты не выходят, перебои с электричеством, остановились конки и трамваи. Видя подобное брожение, царь скрепя сердце согласился на все эти “кипятильники”, “умывальники”, “вентиляции”, “отмену грудных номеров”, “отмену обыска”, что там еще? “Библиотека за счет хозяина”? “Хорошее обращение”? “Восемь часов работы”? “Рубль пятьдесят – мастеровому, рубль – рабочему, полтинник – мальчику”?
Прислали из Царского Села народу, сочинили Манифест: “мертвым – свободу, живых – под арест”. Ибо уже назавтра на Немецкой улице был убит революционер Николай Бауман.
В продолжение целого дня его тело несли от Технического училища до Ваганьковского кладбища. Макар лично подпирал плечом левый борт гроба Николая Баумана. Стеша сохранила фотографию траурной процессии. Он идет, голову понурил, резко очерченные скулы, щеки втянутые, сдвинутые брови, весь его облик суровый говорил о том, что он этого дела так не оставит. Тем более поздно вечером на Никитской, по пути с Ваганькова колонна рабочих, в которой дед горестно возвращался домой, была расстреляна из окон Манежа. Макар едва спасся тогда, он был молодой и проворный.
Посвяти себя земле, пока ты на земле, сердце мое, если ты хочешь достичь недостижимого человека. Положи к его ногам флоксы, сирень и ароматный цвет шиповника, которые посадила Стеша в Уваровке, в яблоневом саду на бывших грядках картошки и клубники. В мокром саду под грибным летним дождиком она гуляла босиком, и по белой траве, по утреннему инею поздней осенью гуляла босая, – она любила там жить до зимы, в нашем старом бревенчатом доме с дымящейся печью, ее выложил Ваня-печник, забиравший к себе без всякой меры детей у окрестных алкоголичек. Он терпеливо переносил страдания и лишения, кормил и растил их бесшумно и с христианским смирением. Стеша Ване споспешествовала и попустительствовала, она ценила великодушие в людях; хотя печка дымила ужасно, она обтерпелась и обвыкла. А когда Ваня умер, не проявляя никаких признаков смерти, и лежал на кровати совсем как живой с сияющим лицом, похоронила его за свой счет, усадила могилу лиловыми сентябринами и сказала – ему – или мне?
– Умирая со смертью, ты должен жить, чтобы искать…
Прошел октябрь, ноябрь, а в декабре Стожаров дождался главного! Конференция всех заводских и фабричных организаций постановила седьмого декабря в двенадцать часов дня начать всеобщую политическую стачку и стремиться перевести ее в вооруженное восстание.
Для осуществления этой цели требовалось оружие. Московский комитет выдвинул в ряды рабочих некоего товарища Доссера, боевого организатора по кличке Леший. Это был крепко сколоченный мужик, как тот стул, с которого встал Макар, когда отправился под красным знаменем останавливать заводы. Лицо Лешего пряталось в бороде, носил он серую косоворотку, походил на крестьянина.
– Неуклюжие смит-вессоны тульской работы и “бульдоги” достать не проблема, да разве это оружие? – говорил Леший, поблескивая косым глазом сквозь чайную пыль на одной из тайных рабочих сходок. – Нам требуются винтовки, карабины, маузеры, парабеллумы, в худшем случае – браунинги и наганы.
Рабочие отдавали последние сапоги, чтобы купить браунинг.
Железнодорожники запасались маузерами, винчестерами и магазинными ружьями. Разгромили оружейный магазин Биткова на Большой Лубянке. Курские мастерские получили от Московской боевой организации три ящика карабинов и двадцать штук маузеров. Маузеры лежали в большой корзине, завернутые в масленую бумагу, рядком, как младенцы перед кормлением. От них кисло пахло железом, и это тревожило и веселило Макара.
В чаеразвеске семнадцать человек имели маузеры, остальные подпольщики держали наготове браунинги, шестизарядные “бульдоги”, некоторые приготовили “селедки” – стальные тяжелые шашки. Плешакову, десятнику курской дружины, когда он пришел по одному адресу на Садовой-Триумфальной улице, положили в руки мешок с бомбами. Он закинул его за плечи, как свеженакопанную репу, и понес по городу на свою квартиру.
Макар тогда жил в доме Кубышкина на Хиве. В сентябре четвертого года познакомился с неким Алексеем Финиковым. Вроде мелкий торгаш, держал овощную лавку. А в этой лавке можно было получать капусту, завернутую в листовку. Кочан разворачиваешь, а там: “Долой извергов и правительство продажных царедворцев и прихвостней капитала!” Или купишь морковь, стряхнешь с бумажки землю с песком и читаешь: “Товарищи! Ждите сигнала нападения на тирана!”
Последнее, что Макар получил от Финикова в декабре перед началом всеобщей стачки, – это письмо самого Ильича из Женевы боевому комитету, в него завернули померзшие клубни картошки.
“Товарищи! Пусть все вооружаются кто как может, кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога. Проповедникам нужно давать отрядам каждому краткие и простейшие рецепты бомб, элементарнейший рассказ о всем типе работ, а затем предоставлять всю деятельность им самим.
Отряд должен тотчас же начать военное обучение на немедленных операциях, ТОТЧАС ЖЕ!!! Одни предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие – нападение на банк для конфискации средств для восстания. Не бойтесь этих пробных нападений. Они могут, конечно, выродиться в крайность, но это беда завтрашнего дня, а сегодня беда в нашей косности, в нашем доктринерстве, старческой боязни инициативы. Пусть каждый отряд сейчас учится хотя бы на избиении городовых: десятки жертв окупятся с лихвой тем, что дадут сотни опытных бойцов, которые завтра поведут за собой сотни тысяч”.
И уж на что Макар Стожаров был уличный хулиган, даже он удивлялся – какой у них Ленин лихой и бедовый командир.
Вскоре о Зюсином инструменте прознали два брата-еврея Шмерл и Амихай, музыканты из Мардахова и Погорелок. Шмерл явился в пятницу вечером, принес рыбу с хреном и кринку меду.
– Вот, тебе, Зюся, золотая рыба, тебе, Дорочка, – сладкий мед. А мне, дорогой мастер, продай скорей скрипицу, что ты сделал, просто не терпится сыграть на ней псалом “На реках Вавилонских сидели мы и плакали”!
– Нет, – мотает кудлатой головой Зюся, – еще там уйма работы, нужно деку отполировать и колок переставить.
Рыжебородый Амихай предлагал свою молочную корову:
– По ведру в день, по ведру в день, ты меня послушай, Зюся, это не коровка, это молокозавод! Не то что твоя Голубка, худосочная и хромая. Прости меня, Господи! – пел Амихай, бродил, как сомнамбула, по пятам, поглядывая на шкаф, где лежала укрытая фланелью та самая скрипка, золотисто-желтая с легчайшим коричневым оттенком, про которую все уже знали, и некоторые даже слышали, как она звучит, заглядывали к Блюмкиным в окно и ждали, не коснутся ли их ушей звуки божественного инструмента.
Некий Ицик Бесфамильный из Малостраницы пришел на нее посмотреть хоть одним глазком, он не просил продать, он просто хотел покрутиться вокруг нее. Зюся снял фланель и поводил смычком по струнам, как полагается мастеру, а не музыканту. Ицик удалился в слезах, попросив дать ему рубль на извозчика, в ночь-полночь на проселочных дорогах могли повстречаться беглые солдаты и другие шебутные людишки. Пришлось Зюсе отдать этому человеку рубль.
– Зюсик, любовь моя, счастье мое, очнись! – звала его Дора. – Только погляди на себя – как ты отощал! Сделал скрипочку, которая нас озолотит, и не хочешь с ней расстаться…
Но Зюся представить не мог, что чьи-то руки держат за горячий бок его белоствольную красавицу, терзают лошадиным волосом ее небесные струны; в общем, сидел на ней как собака на сене.
Тем временем другие дела закрутились в Витебске, не все долетало до Покровки, но сосед Хазя Шагал, селедочник, рассказал Доре о том, что народ в городе волнуется, рабочие гвоздильного завода устроили демонстрацию.
– Что за демонстрация, слово-то какое страшное? – спросила Дора.
– Вот те раз! – почесал бороду Шагал. – Разве ты не знаешь: вот-вот грянет революция? Со своими “модами Парижа” отстала от времени, не замечаешь, какие события грядут? Мой Марик бегал на завод, даже был на маевке. Темная ты женщина, Дора, маевка – это митинг, на котором говорят важные слова разные люди… – перешел на шепот Хазя. – В общем – лучше тебе не знать, что это такое, Дора, будешь спать спокойно.
Но спать спокойно на Покровке оставалось всего два дня. Да и всему Витебску.
В тот вечер солнце горело на том берегу Витьбы, горело огненно-красно, как огромное неколотое полено, в дыме кучевых облаков. И это полено падало с шипеньем в воды, будто огромная головешка, превращаясь в страшную немую рыбу голавль, предвестницу грядущей беды.
Дора шила вечернее платье для жены уездного стряпчего и, как всегда, что-то напевала, когда ей в окно постучал Филя Таранда.
– Слушай, – сказал он. – Я тут покупаю фунт крыжовника, хожу по базару и ем ягоды прямо из пакета, вдруг вижу – к нам на Покровку идут крестьяне с вилами, и городовой с ними, рожи у всех зверские, кричат: “Мы им покажем, жидам!” Беги, соседка, зови мужа, Йошка уже у меня. Быстрее, я вас спрячу.
Скоро, в одну минуту, собрали что могли, деньги, бумаги, колечки, попрятали в сумку, набросили что попало, в галошах на босу ногу, огородом побежали к Филе. И сразу через щель в сарае, где Филарет держал гончарную утварь, станок для раскатки глины, формы, кадушки, печь для обжига, гончарный круг, увидел Зюся гудящую толпу мужиков из соседних деревень, они кричали что-то остервенело, в глазах светились огромная злоба и тоска, а сами шли и шли, не разбирая дороги, прямо посередине улицы, перегородив Покровку.
Страшную колонну вел некий господин, полный, с курчавой бородой, похожий на околоточного надзирателя, в серой рубахе с косым вырезом. Он ясно и четко выкрикнул:
– Эти жиды, неверные, растоптали просфиру и порезали ножом икону с Иверской Божьей Матерью в соборе, надо их за это наказать. Погромить их жидовские квартиры, маленько петушка красного подпустить под их перины.
И они двинули в сторону Зюсиного дома.
Сердце Зюсика оборвалось, перед глазами возникла его скрипка, которую он забыл впопыхах, оставил у себя в мастерской, и он упал в страхе за Иону и Дору на земляной пол сарая, обнял их за плечи.
Клубы пыли и дыма нес над крышами домов сухой горячечный ветер, пропал аромат луговых трав, в душном воздухе явственно проступил запах пожара и злобы. Откуда-то издалека донесся истошный женский крик, но сразу стих. Послышался резкий щелчок выстрела, нестройный лай очумевших собак и неожиданный гром приближающейся грозы.
Летний ливень упал на город, тяжелые капли застучали по крыше сарая, струи воды разом ударили в пыльную черную землю, разбиваясь на серые и голубые брызги. В щелочку было видно, как бежал человек по улице, не прикрывая голову, он только держал ладошку у лба, казалось, он выглядит озабоченным, а этот жест помогает ему обдумать, что же происходит в нашем мире. Из-под руки по его лицу текла розовая вода, она заливала его белую рубашку, оставляя беспорядочные красные пятна.
Это ж Эвик Нейман с соседней улицы, что с ним, как будто облился самодельным вином на свадьбе, подумал Зюся, вот неуклюжий какой. За Эвиком тяжело бежали три мужика, явно крестьянского сословия, выкрикивая матерные слова, они силились догнать его, чтобы убить, это желание было написано на их красных волосатых лицах. Один вдруг остановился с открытым бородатым ртом, не в силах продолжать погоню, качаясь черным маятником, размахнулся и бросил вслед убегающему черный топор. Орудие труда в одночасье превратилось в страшное орудие убийства, медленно совершило круг под дождем, рассекая занавесь струй, и ударило тупым концом прямо в спину беглеца. Нейман споткнулся, замер и упал навзничь в лужу посередине улицы. Зюся закрыл глаза.
Ночью, оставив Дору и мальчика у Фили, он пошел, вжавшись в серые заборы, к задним воротам своего дома. Во дворе прямо на земле лежали груды разорванных тряпок, вспоротые матрасы, осколки зеркала и другие вещи, которые, видно, не понравились погромщикам и ворам.
Голубку они угнали. Он слышал ее отчаянное прощальное мычание.
Все было разрушено, побито, ящики сорваны с петель, полки опустошены. В доме оба шкафа выпотрошены, белье и одежда унесены, а та, что осталась, порезана ножом. Дверки буфета вырваны, и разбиты стеклянные окошечки, которые в солнечную погоду отбрасывали радужные солнечные зайчики, они всегда радовали Дору, потому что в комнату редко заглядывало солнце, а уж если попадало – то стены, пол и потолок были разукрашены разноцветными летними пятнышками…