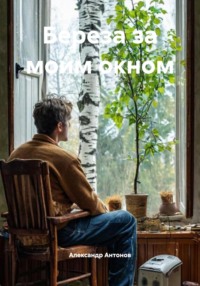Полная версия
Доска Лазарева

Александр Антонов
Доска Лазарева
Глава 1. Дом, которого нет на карте
Когда журналисты пишут, что я вырос «в коммуне на юге России», это звучит почти ласково. Коммуна – что-то из учебника по социологии: люди выращивают помидоры, спорят о Марксе, играют на гитаре у костра.
То, где я жил до двенадцати, на бумаге не существовало.
Если открыть старые топографические карты, на месте нашего поселения – грязно-зелёное пятно без названия. Лесополоса, затянутая болотом. На спутниковых снимках тех лет – серое зерно, неопознанная россыпь пятен между полями. кажется, что так и должно быть: чужие глаза ничего не видят, пока ты сам не начинаешь вспоминать.
Я помню железные ворота.
Не как стройную деталь кадра, а как первое, что постоянно упирается память. Глухие створки цвета ржавого мха, сварные кресты, между ними – кружочки, из которых мы с другими детьми выковыривали пальцами облезающую краску. За воротами – мир, в котором «растворились» наши прежние фамилии и адреса. Перед воротами – щебёночная дорога, по которой иногда проезжала машина с чужими номерами, и взрослые отворачивались к стене.
Всё это называлось «Станцией».
Официальное название, которым пользовались взрослые, когда писали редкие письма в мир, было длиннее: «Община Церкви Бессмертного Сознания при бывшем объекте связи». Для нас, детей, было просто: Станция. Так называли и ворота, и дома, и людей за воротами.
Станцию построили раньше, чем меня. Говорили, здесь когда-то были военные и антенны. От антенн остались ржавые круги в земле и бетонные постаменты, на которые мы забирались играть, пока нам не объяснили, что это «места силы» и по ним нельзя просто так бегать. На постаментах поставили деревянные кресты, потом кресты сняли – и вкопали тонкие металлические столбы с зеркальными пластинами наверху.
«Отражатели», объяснял Пастырь. «Пусть всё мирское отражается и уходит обратно в тление».
Пастырем мы называли его между собой, хотя официально он был «Учитель». На собрании ему говорили: «Отче», «Учитель», «наставник». Дети, если вдруг обращались не через взрослых, запинались, потому что не знали, как правильно. Я одно время пытался говорить по фамилии, как в школе: «товарищ…» – но школы уже не было, а фамилии – тем более.
Фамилию у меня забрали в первый же месяц на Станции.
До этого я был Андрюша Лазарев, как в свидетельстве. Мама называла меня просто «Андрей», громко, на кухне, когда мы собирали сумки. Потом мы ехали на автобусе, где окна были заклеены рекламой, и она говорила:
– Тут нас не знают. Тут мы уже другие.
«Другими» быть проще, чем я тогда думал.
В административном бараке – длинном коридоре с линолеумом, который скрипел под босыми пятками – сидела сестра Мария, женщина с высоким лбом и хриплым голосом. Она переписывала наши данные в толстый журнал. Когда очередь дошла до меня, она спросила:
– Имя?
– Андрей.
– Дата рождения?
Мама ответила за меня.
– Фамилию не пишем, – сказала Мария, не поднимая глаз. – Здесь мы все дети Бессмертного Сознания.
Она провела ручкой по графе «фамилия», будто заштриховала её. Мне показалось, что лист бумажный вздохнул.
Так я впервые оказался человеком без фамилии. Просто Андрей.
Посёлок внутри забора казался большим только в первые дни. Потом выяснилось, что по кругу его можно обойти за пятнадцать минут. Два спальных корпуса – один для семей, второй для одиноких и «братьев служения», старый кирпичный дом с обвалившейся штукатуркой, где жил Учитель, длинный одноэтажный сарай, переоборудованный в «дом молитвы», кухня-столовая, блок бань и прачечных и отдельно – «детская».
Взрослые называли её «школой», но в ней не было ни звонков, ни расписания. Только доска, которая стояла не у стены, а прямо в центре комнаты, как ещё один стол. За доской – сестра Анна, худощавая женщина в сером платье до пят, которая знала таблицу умножения и цитаты из книг Учителя.
В школе учили не столько считать, сколько стоять.
Мы стояли в две шеренги лицом к доске, вытянувшись, и повторяли вслух фразы, написанные мелом крупно, как плакаты:
«Тело – временно, сознание – вечно».
«Мир – сон, Станция – пробуждение».
«Кровные связи – оковы, связи духа – крылья».
Я тогда не понимал, что эти фразы когда-нибудь будут жить во мне, как занозы. В семь лет я произносил их честно, стараясь не сбиваться, потому что за ошибки наказывали не только тебя, но и всю шеренгу.
Самым страшным наказанием было «Бдение».
Бдение назначали вечером, после ужина. Тебя ставили в коридор лицом к стене, на уровень глаз приклеивали листок с фразой из Учения. Нельзя было прислоняться, нельзя было двигаться, только шептать эту фразу до тех пор, пока сестра дежурная не скажет «достаточно». Иногда это длилось час, иногда – всю ночь.
Однажды на Бдение поставили меня и маму вместе.
Меня – за то, что дрался с другим мальчишкой, мальчишку – отправили дежурить в прачечной, а маму – за то, что она «поставила под сомнение решение старших».
Мы стояли по разные стороны коридора. Листок у меня на уровне глаз гласил: «Сомнение – это ржавчина духа». У неё – «Сын не твоя плоть, сын – сосуд».
– Сын не твоя плоть, сын – сосуд, – шептала мама, и я слышал, как у неё дрожит голос.
– Сомнение – это ржавчина духа, – повторял я, не понимая, что моя фраза – про неё.
Потом, уже взрослый, я долго думал, в какой момент она впервые решила, что нас надо отсюда увести. Может быть, именно в ту ночь, когда мы оба смотрели в обшарпанную стену и читали чужие слова, висящие между нами.
В детской нам запрещали говорить о том, что было «до Станции». До – это был «мертвый мир». Всё, что относилось к прежней жизни, называли «мертвечиной»: игрушки, фотографии, любимые мультфильмы, которые мы когда-то смотрели.
– Мертвечину не вспоминаем, – говорила сестра Анна, если кто-то случайно проговаривался.
У кого-то прошлого было больше, у кого-то – почти ничего. Некоторые дети родились уже здесь, их младенческое время прошло под гул генератора и запах сырой котельной. Я принадлежал к «переехавшим» – тем, кого привезли уже готовыми, с багажом. В моём багажнике лежал мешок с одеждой, пара книг и шахматная доска, которую мы так и не успели вынести из машины.
Про доску никто из взрослых не вспомнил.
Я тоже постарался забыть.
Учителя я увидел в первый раз не на собрании, а ранним утром в прачечной.
Мне было девять. Я стоял на табуретке и полоскал в корыте кухонные тряпки – наказание за то, что тайком взял у повара лишний кусок хлеба. Вода в корыте была серой, с островками пены, руки ломило от холода. Окно выходило во двор, стекло было в мелких трещинах, и я смотрел через него на солёный иней на земле.
Дверь в прачечную приоткрылась, и вошёл он.
Не в белой рубахе, как на собраниях, а в синей стёганой куртке, какой-то совсем обычной. На ногах – валенки, на голове – вязаная шапка. Только глаза те же, что потом будут смотреть с фотографий в интернете: светлые, почти выцветшие, и очень внимательные.
– Ты чей? – спросил он просто, без пафоса.
– Мамин, – ответил я автоматически, а потом спохватился: – То есть… сына сестры Елены.
Он посмотрел на мои руки в воде, на корыто, на тряпки.
– За что?
– За хлеб, – признался я.
Он чуть кивнул, будто это было логично.
– Хлеб не берут без разрешения, – сказал он. – Здесь нельзя жить, как в старом мире. Старый мир живёт, чтобы есть. Мы едим, чтобы служить. Понимаешь?
Я кивнул, хотя понимал только, что меня заметили.
Он подошёл ближе, взял мою кисть из воды, внимательно посмотрел на ногти, на покрасневшую кожу.
– Руки у тебя аккуратные, – сказал он. – Голова, вижу, тоже работает. Тебя можно будет поставить на более тонкую работу, чем тряпки.
Он сказал это не мне – себе. Но с того дня я стал «аккуратным».
Никакого громкого «избранности» ещё не было, только этот взгляд, оценивающий, прикидывающий, куда тебя можно пристроить в их системе.
Через неделю меня посадили в первый ряд на собрании.
Собрания проходили каждый вечер после ужина. Дом молитвы пах варёной капустой, мокрой одеждой и строительной пылью – её никак не могли до конца вымести из щелей. Вдоль стен стояли лавки, в центре – узкий проход, прямо на голом полу – старые ковры. Мужчины сидели слева, женщины справа, дети – впереди, на первых двух лавках, чтобы «впитывать слово».
Учитель выходил не сразу. Сначала все долго пели. Пели медленно, вытягивая слова, так, чтобы взрослые успевали войти в нужное состояние, а дети – устать и перестать дёргаться.
Я сидел на передней лавке и считал сучки в досках пола. Там, где ковёр заканчивается, начиналась доска, а в доске – трещина, похожая на линию реки. По эту сторону – женщины в платках. По ту сторону – мужчины с короткими стрижками. Я видел только их ботинки.
Когда песнь шла уже по третьему кругу, дверь в дальнем углу открывалась, и в зал входил Учитель.
Вход его был простым и театральным одновременно. Он не махал руками, не кричал, но тело зала сразу менялось. Люди выпрямлялись, голоса становились тише.
Он шёл по ковру, мягко ступая валенками, и садился в кресло у стены. Кресло отличалось от всех других предметов мебели: с подлокотниками, обитое тёмной тканью. Мы называли его «трон», хотя это слово не приветствовалось.
– Между мирским и немирским нет стены, – говорил он. – Есть лишь настрой твоего сознания.
Говорил он без бумажки, но многие фразы повторялись так часто, что казались выученными. Я сначала пытался следить за смыслом, но быстро понял: смысл не главное. Важнее ритм. Высказывания ложились на людей как волны. Он поднимал голос, когда говорил о «тлении» и «плотской жизни», и почти шептал, когда произносил «бессмертие» и «свет».
Иногда он задерживал взгляд на ком-то одном. Взрослые потом неделями обсуждали: «Сегодня он смотрел на меня, значит, я что-то не так делаю», или наоборот – радовались.
В тот вечер, когда меня посадили в первый ряд, его взгляд остановился на мне.
– Как тебя зовут, сын? – спросил он, не вставая.
В зале сразу стало тихо.
– Андрей, – ответил я, ощутив, как во рту пересохло.
– Андрей, – повторил он. – Значит, мужественный.
Я не знал, что моё имя так переводится, но спорить было неловко.
– Здесь ты заново родился, – продолжил он. – Твой прежний дом растворился. Скажи вслух: «Мой дом – здесь».
Я попробовал сказать, но горло сжалось.
– Мой дом… здесь, – выдавил я.
– Громче, чтобы мёртвый мир услышал, – мягко попросил он.
– Мой дом здесь, – почти крикнул я.
Люди за спиной зашевелились, кто-то вздохнул. Мама сидела в женском ряду, я чувствовал её взгляд затылком.
– Запомни, – сказал Учитель. – На карте мира много линий и названий. Но истинные координаты – не на бумаге и не в металле. Они в сознании.
Он улыбнулся – чуть-чуть.
– Твой дом – там, куда повернут твой внутренний взгляд.
Эту фразу потом десятки раз печатали на листовках. Её вынесли на стенд в доме молитвы, её повторяла сестра Анна на занятиях, её писали на полях тетрадей.
Мой внутренний взгляд тогда был повернут на маму.
И на ворота.
До ворот детям было дойти легко – трудно было подойти.
От спальных корпусов к въездному проезду вела дорожка, утоптанная резиновыми сапогами. Днём рядом с воротами всегда кто-то стоял: брат-сторож, водитель старого «ПАЗика», который возил людей в город за продуктами и на редкие «служения в миру», иногда сам Учитель. Между створок и боковыми столбами натягивали цепь, на ночь на неё вешали замок.
Мы, дети, играли поодаль – на бывшем плацу, где трава пробивалась через трещины в асфальте. Я иногда подбирался ближе, под видом того, что гоняю мяч или ищу палку.
Снаружи был мир: поле, линия леса, редкая машина. Машины я считал как шахматные фигуры: вот едет «ладья» – грузовик, потом «конь» – старый мотоцикл, из-за поворота появляется «слон» – автобус, длинный и медленный. Тогда больше всего хотелось быть пассажиром этого автобуса – человеком, который не знает, что здесь, за воротами, живут другие люди без фамилий.
– Андрей, дальше нельзя, – окликала меня мама, если замечала, что я задержался.
– Почему?
– Потому что так нужно. Потому что за воротами – тление.
Она говорила это без убеждения, как цитату.
Иногда ночью, когда я не спал, слышались звуки оттуда, с дороги: короткие вспышки света на потолке комнаты, глухой рокот, потом тишина. Я представлял себе людей в салонах: кто-то спит, кто-то смотрит в окно, кто-то читает. У них, наверное, тоже есть дети. Может, они уже играют в шахматы.
Слово «шахматы» тогда ещё не болело, оно просто лежало в памяти, как забытая вещь на верхней полке. Черно-белые квадраты, фигурки в коробке, папа, которого я не помнил трезвым. Папа исчез задолго до Станции; его вспоминать было запрещено. Но доска из нашего бывшего дома иногда всплывала в голове без него.
«Мой дом здесь», – вспоминал я и представлял доску, которая почему-то тоже была «здесь», хотя лежала, вероятно, где-то в гараже, в чужих руках или на свалке.
Жизнь на Станции была одновременно однообразной и тяжелой.
Утром – подъём под звук старого будильника в коридоре. Дежурный брат проходил по комнатам, стучал костяшками пальцев по дверям.
– Подъём, дети света.
Мы вставали, застилали свои железные кровати. Одеяла были серые, грубые, но тёплые. Зимой в спальном корпусе пахло сыростью и мокрой одеждой, которую сушили прямо в проходах. Летом – горячим деревом и потом.
Завтрак – жидкая каша и чай. Потом – «трудовые часы»: кто-то шёл на огород, кто-то в прачечную, кто-то на кухню помогать. Мне рано стали поручать «ответственные дела»: разнести по корпусам распечатанные листки с новыми текстами Учения, помочь сестре Марии в журнале, проверить, чтобы в детской все стулья стояли ровно.
Ощущение служения смешивалось с постоянным страхом: сделать не так, сказать лишнее, задержаться у окна, не заметить, что кто-то плачет, когда «не положено».
– Тут не детский сад, – говорила сестра Анна. – Тут ковка.
Мы, по её словам, были заготовками, которые нужно прокалить и выправить.
Иногда в посёлок приезжали новые люди.
Машина останавливалась у ворот, взрослые выходили, оглядывались. Их лица были разными: усталыми, настороженными, ослеплёнными надеждой. Детей среди новеньких было мало. Как правило, семья входила не в полном составе: кто-то оставался «в мире», кто-то приезжал один.
Я смотрел на них и пытался угадать, сколько им понадобится времени, чтобы перестать оглядываться.
Некоторым хватало недели.
Мама оглядывалась очень долго.
Она не была фанатичкой, как другие женщины. Не цитировала Учителя к месту и не к месту, не кричала «аллилуйя» на собраниях, не падала в слёзы, когда он проходил рядом.
Иногда ночью она садилась на край моей кровати и тихо разговаривала сама с собой.
– Андрей, ты спишь?
– Не знаю, – отвечал я.
– Не спи, – просила она. – То есть… спи. Просто если не спишь, слушай.
Она говорила шёпотом, но стены были тонкие, и я всегда боялся, что нас услышат.
– Ты должен понимать… – начинала она и тут же запиналась. – Нет. Ты ничего не должен. Это я должна была всё понять раньше.
Я не понимал, о чём она. Для меня Станция была данностью, как погода. Иногда плохо, иногда сносно, всегда – неправильно, но других вариантов я не видел.
– Ты ведь знаешь, что раньше у нас была другая жизнь, – говорила она.
– Это мертвечина, – автоматически отвечал я, повторяя уроки сестры Анны.
Мама криво улыбалась в темноте.
– Да. Мертвечина, – соглашалась она. – Только вот я иногда не понимаю, где настоящее мёртвое место: там или здесь.
Через несколько дней после одного такого разговора нас с ней поставили на Бдение. Я не знаю, кто слышал наши ночные слова и донёс. Может, никто специально не подслушивал – стены сами всё слышали.
С того момента мама стала осторожнее. Но взгляд её изменился: в нём появилась какая-то чёткая линия, как на полу между коврами.
Дом, в котором жили я и мама, стоял ближе всех к забору. Это был одноэтажный щитовой корпус на восемь комнат. Наша – третья слева. В окне не было занавесок, только белая простыня, прибитая гвоздями.
Иногда мне казалось, что весь наш дом наклонён внутрь, к центру Станции, а не к миру за забором. Коридор уходил вглубь, к кухне и выходу во двор. Окна из коридора не смотрели наружу.
Дом, которого нет на карте, устроен так, чтобы его не было и в привычной геометрии.
Много лет спустя мне снились одинаковые сны. В них я стою в каком-то чужом городе – Лондон, Берлин, неважно, – и пытаюсь найти Станцию на схеме метро. Вожу пальцем по линиям, ищу нужную станцию, но её нет. Вместо неё пустое место, пробел. Иногда – просто пятно кофе, растёкшееся по бумаге.
Просыпаясь, я некоторое время не понимаю, в каком городе я действительно. Это состояние – когда тело не успевает за сознанием – похоже на шахматный блиц, где ты сделал ход, а рука всё ещё висит над доской.
Я улыбаюсь: снова этот дом, которого нет ни на одной карте.
Но есть во мне.
Пожалуй, с этого и стоит начинать мемуары: не с громкого скандала, не с картинки со мной в галстуке на баннере ChessNet, а с запаха сырой штукатурки и металлического привкуса в воде, которую я пил на Станции.
С того утра, когда Учитель впервые сказал, что я «аккуратный», и мир вокруг чуть-чуть придвинулся ко мне, как доска ближе к краю стола.
Шахмат ещё не было.
Была только территория, отрезанная от остального мира заборами и словами.
Там меня объявили заново рождённым.
Вопрос только в том, кто именно тогда родился – и кого в итоге им удалось вырастить
Глава 2. Особенный
Когда тебя однажды выводят на середину зала и заставляют громко сказать: «Мой дом здесь», ты думаешь, что это разовый номер. Что тебя использовали, как табуретку для лампы: поставили, вкрутили нужную фразу, убрали обратно в угол.
На Станции «разового» не было. Любое действие быстро становилось ролью.
После того собрания я проснулся уже другим человеком, хотя кровать стояла там же, одеяло кололось так же, и будильник в коридоре звенел тем же дребезжащим голосом.
Разница была в людях.
Утром, когда мы шли по коридору к умывальнику, мимо меня проходила сестра Анна. Раньше она говорила:
– Подтянулся, Андрей, – как про общий строй.
В тот день она остановилась. Посмотрела внимательно, как смотрят на новую вещь в хозяйстве.
– Сыну Учения нужно держать спину ровнее, – сказала она и, не дожидаясь, пока я выпрямлюсь, сама ладонью провела мне по позвоночнику, как по рейке.
Рядом шёл мальчик Славка, он посмотрел исподлобья:
– Тоже мне, сын Учения, – пробурчал почти беззвучно.
До этого я был просто одним из «детей света» – размытой массы, которую строили по росту и запихивали в общие формулировки. Теперь у меня появилось точное определение.
– Это тот мальчик, который говорил с Учителем, – прошептала кто-то из женщин в очереди за кашей.
– У него внутренняя настройка хорошая, – ответила другая. – Видишь, как он смотрит?
Я не знал, как я смотрю. Я вообще старался ни на кого не смотреть, чтобы взгляд не зацепился за лишнее.
Мама молчала. На кухне, среди пара от котлов, она показывала повару, сколько нужно соли, и делать вид, что их разговор меня не касается, ей удавалось лучше, чем всем остальным.
Только вечером, когда мы вернулись в комнату, она сказала:
– Ну вот. Дождалась.
– Чего? – не понял я.
– Ничего. Роли.
Она произнесла это слово не по-станционному. У нас обычно говорили «служение», «призвание», «путь». «Роль» звучала слишком театрально, а театр считался пустой забавой мёртвого мира.
– Это ведь хорошо? – спросил я, потому что так было положено: «быть замеченным» считалось благодатью.
Мама села на край кровати, положила ладони на колени. Долго смотрела на них, будто это были чьи-то чужие руки.
– Хорошо, – сказала она наконец. – Когда тебя выделяют, тебя будут и беречь, и использовать. Вопрос – в какой пропорции.
Тогда я не понял, что это за дробь такая.
Дополнительные «духовные практики» начались уже через неделю.
Сначала меня просто пересадили. В детской я больше не стоял в общем строю в середине шеренги. Меня поставили либо в самый центр, чтобы «младшие тянулись», либо отдельно, рядом с доской.
– Андрей, перескажи, что сегодня говорил Учитель, – просила сестра Анна после вечернего собрания.
Остальные дети в это время шуршали тетрадками, кто-то зевал, кто-то ковырял нос. Пахло мелом и дешёвыми духами, которыми сестра пыталась перебить котельный запах.
Я старательно вспоминал длинный поток слов, в котором на самом деле мало что задерживалось. В памяти оставались куски, как осколки посуды после драки: обрывки образов, интонации.
– Он говорил, что сознание – это не лампочка, которую выключили и выбросили, – сказал я однажды. – Это… проводка. Всё равно где горит.
Сестра Анна прищурилась.
– Своё не выдумываем, – мягко, но жёстко напомнила она. – У Учителя другая метафора.
Она открыла толстую тетрадь, куда переписывала его речи, и нашла нужную строчку:
– «Сознание – это не лампа, которую гасят, а пламя, которое переходит в другой сосуд».
А потом посмотрела на меня внимательно:
– Но то, что ты сказал, тоже интересно. Ты, значит, так услышал. Это важно: как именно слышит избранный.
Слово «избранный» прозвучало в классе впервые. Дети напряглись. В воздухе вдруг стало тесно.
– Мы не говорим «избранный», – поспешно поправилась она. – Мы говорим: «особый канал».
От этого легче не стало.
После урока Славка пошёл рядом со мной, хотя обычно держался чуть сзади.
– Канал, – сказал он и хмыкнул. – Толчок, унитаз, Андрей-канал.
Он сказал это тихо, шёпотом, но обида ударила громко. Я хотелось толкнуть его в плечо, чтобы доказать, что я всё ещё обычный. Вместо этого я прошёл мимо и сделал вид, что не слышал.
– Сомнение – это ржавчина духа, – прошептала у меня в голове знакомая фраза с Бдения.
Раньше она относилась к моей маме. Теперь – к нему.
Дополнительные практики выглядели сначала как привилегия.
Меня стали звать на утренние молитвы, куда до этого допускали только старших. Это было в пять утра, когда в спальном корпусе ещё пахло ночным дыханием и влажным деревом.
Я стучал зубами от холода, накидывал на плечи ватник и шёл через двор в дом молитвы.
Внутри было полутемно. На лампах над низким потолком висели тряпки, чтобы свет был мягким. Люди стояли на коленях на коврах, кто-то раскачивался, кто-то просто молчал.
Меня ставили в первый ряд.
– Смотри внутрь, – шептала на ухо сестра Анна или какая-нибудь другая «старшая». – Слушай: какие слова в тебе рождает Бессмертное Сознание.
Первые несколько раз внутри не рождалось ничего, кроме желания лечь обратно в тёплую постель. Я честно смотрел «внутрь», но видел там только тёмное пятно, похожее на запечатанное окно в нашей комнате.
Когда спустя полчаса или час Учитель тихо спрашивал:
– У кого сегодня было слово?
– У меня, – отзывались женщины. – Мне открылось, что мы не должны бояться холода. Холод – это очищение плоти.
Или:
– Я увидела, что те, кто ещё в мире, как спящие рыбы. Мы – вода, в которую они должны войти.
Слова звучали однообразно, но я видел, как лица вокруг разглаживаются, как людям становится легче, будто они выполнили норму.
Однажды Учитель задержал на мне взгляд:
– А ты, сын? Что услышал ты?
Внутри была пустота, но пустотой делиться было страшнее, чем ложью.
– Я… почувствовал, – начал я, и горло пересохло, – будто… будто мы все – как… фигуры…
Слово «фигуры» само выскочило. Не шахматные – просто что-то, что можно переставлять.
– Какие фигуры? – мягко, но цепко спросил он.
Я сглотнул.
– Как будто ты – наверху, а мы… ниже. И ты нас перетаскиваешь. Но не как вещи, а как… ну… как на доске.
Я тогда ещё не соединял это с той доской, которая лежала забытая в нашем багажнике. Просто ближайший образ – клетки, порядок, кто куда ходит.
Слова повисли в воздухе.
Кто-то всхлипнул:
– Господь показал ему лестницу, как Иакову. Вверх-вниз.
Учитель чуть прикрыл глаза, как будто прислушивался к чему-то очень далёкому.
– Ребёнок увидел структуру, – произнёс он. – Это знак.
После этой молитвы меня уже официально стали называть «чутким сосудом».
Мама в этих разговорах участия не принимала.
На собраниях она сидела в общем женском ряду: платок, длинная юбка, опущенные глаза. Её лицо было «правильным»: тихая улыбка, лёгкая влажность в глазах, не больше и не меньше.