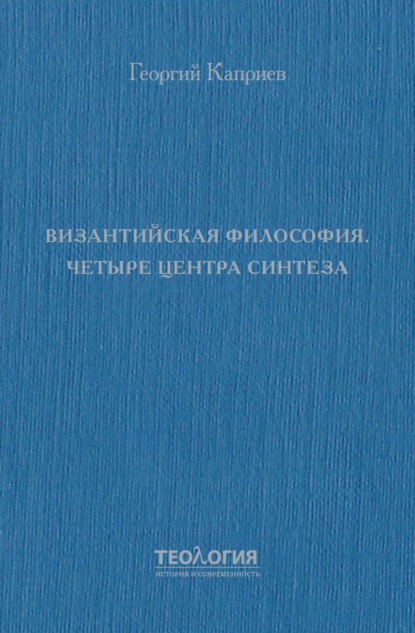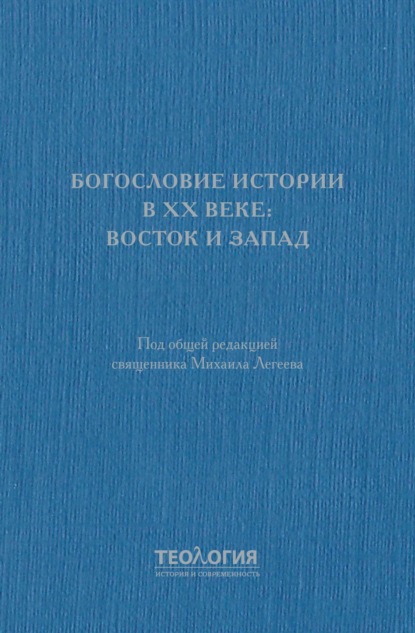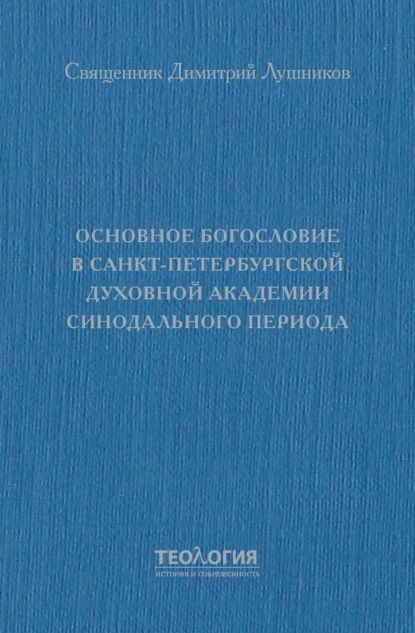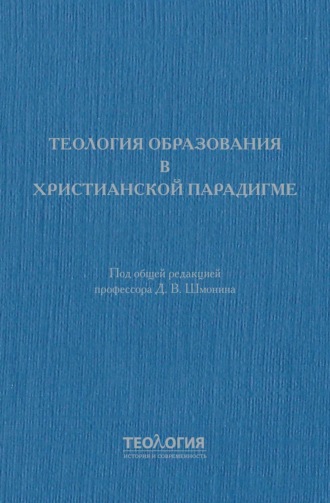
Полная версия
Теология образования в христианской парадигме
Просвещение Эллады
Но еще большим вызовом для традиционных религиозных представлений – как и для традиционных норм образования – стала деятельность греческих «вольнодумцев» (софисты, Анаксагор, Демокрит), которые покусились на сами основания эпического самосознания эллинов и на соответствующие им формы образования.
Прежде всего укажем на религиозный скептицизм Протагора, основания которого лежат в его гносеологических представлениях, выраженных в концепции «человека-меры». Согласно этой концепции, единственным критерием бытия чего-то может быть присутствие его в нашем индивидуальном восприятии. Если я не воспринимаю богов непосредственно, то и не могу утверждать, что им можно приписать бытие (впрочем, и небытие также, ведь мне о них рассказывают эпические поэты). Отсюда нам остается только признать, что у нас столько же оснований в пользу существования богов, сколько в пользу их несуществования. И все, что мы можем делать – не высказываться о них. В этом случае изучение и применение эпических преданий имеет вспомогательный характер, – мифы можно использовать лишь как аллегории для обучения тех, кто не готов к другому, прямому, рассказу, например, происхождения государства и социума (см. платоновский диалог «Протагор»). Понятно, что такая трактовка радикально снижает значимость эпического взгляда на мир, разрушает религиозные основы античного понимания общественной жизни. Поэтому, если верить античной традиции, сочинение Протагора о богах было уничтожено, а против него возбуждено судебное преследование.
Столь же критичны по отношению к традиционной религии представления о богах Демокрита, признававшие существование богов, но весьма специфических, возникавших из атомов и не направлявших жизнь космоса[69], Продика, выдвинувшего т. н. «прагматическое» учение о происхождении богов (люди обожествляют все, что полезно им для жизни), Крития, во фрагменте из сатировой драмы которого «Сизиф» утверждалось, что богов выдумал тот, кто осознал необходимость принудить людей, живших в примитивном обществе, почитать законы.
Таким образом, во второй половине V в. до Р. Х. традиционная «эпическая» религиозность сталкивается с фундаментальным вызовом. В контексте образования те разделы знаний и навыков, которые были базовыми, либо теряют свое значение (знание эпической истории становится лишь признаком «гуманитарной» образованности), либо окончательно становятся предварительным уровнем образования. «Просвещение Эллады», которое осуществляли софисты, касалось фундаментально более широкого круга тем: риторики, лингвистики, физики, астрономии, математики, истории, политики и права (если использовать современные названия научных дисциплин). В каком-то смысле софистическое образование можно назвать вариантом высшего образования, эмансипировавшегося от религиозной и антропософской тематики (которая была важна для пифагорейцев)[70].
Это было моментом серьезного кризиса как общественной жизни в Древней Элладе, так и в образовании. Выражением этого кризиса стали преследования мудрецов-софистов, а также судебный процесс над Сократом и казнь философа. Можно с долей уверенности говорить о том, что в Афинах, этом важном культурном центре Древней Греции, возникла настороженность по отношению к тем новациям в образовании, которые не вызывались необходимостью и противоречили традиционным религиозным верованиям и практикам.
К числу таких новаций относились новые философские школы, возникшие в Элладе после смерти Сократа (мы имеем в виду не только «сократические» школы, но и, например, школу Исократа). Во всех этих школах тема воспитания занимала центральное положение. В случае же школы Платона (Академия) мы можем увидеть, как новая воспитательная программа была связана с философской теологией[71].
Платоновская академия
На наш взгляд, Платон пытался создать некоторую нормативную и максимально рационализованную теологию, которая соотносилась бы как с его метафизикой, так и с требованиями религиозного «здравого смысла», а также вполне могла служить способом обоснования его модели воспитания политика и философа.
С одной стороны Платон, подобно предшествовавшим ему «гомерохулителям», подвергает решительной рационалистической критике их представления о морали и о природе богов[72]. Признавая за поэтами способность получать божественное вдохновение (Ion. 544a), он отклоняет практически всю предшествующую мифологию как неистинный и вредный вид логоса. В принципе, именно к Платону восходит современное понимание понятия «миф» как повествования, обладающего авторитетом в силу неосознанных установок и привычки, не способное быть обоснованным ничем, кроме как авторитетом предков. С этой точки зрения оно по всем статьям уступает диалектике, дар которой воспитывают в себе философы и которому должны быть причастны подлинные политики.
Однако Платон не отказывается от мифа, что накладывает своеобразный отпечаток на его концепцию пайдейи (греч. – παιδεία, «воспитание», слово, которое постепенно становится в античных текстах важнейшим обозначением педагогического и воспитательного процесса, имеющего целью приобретение должного культурного уровня). Это позволит как теологизировать и его педагогическую мысль, и философию в целом (как это произойдет в неоплатонизме), или «романтизировать» ее (как это будет в XIX в., особенно у сторонников романтической философии и принципов герменевтики), так и, наоборот, критиковать Платона с точки зрения систематического рационального мышления (как это делал Аристотель).
«Правильный» миф в текстах Платона исполняет много функций, например, позволяет ему сменить режим мышления, увидеть некоторую тему с новой стороны, подкрепить рассуждения свидетельством старины. Но, несомненно, первейшая его функция – воспитательная (что сам Платон подчеркивает во Второй книге «Государства»). Миф, по Платону, готовит ребенка к правильному усвоению знаний, делая их ценность для его души безусловной. Миф также воспитывает тех, кто не способен подняться на уровень наук и философии.
Сохранение в образовательной практике места для мифа позволяет Платону ссылаться на олимпийскую религию и олимпийских богов, постоянно говорить о связи богов с людьми, однако он вкладывает в эти отсылки уже совсем иной смысл, чем эпические поэты.
Платон создал такое понимание богов и их природы, которое полностью соответствовало нормам приемлемого для него типа рациональности. Он полагал, что боги не-антропоморфны, не поддаются никакому воздействию со стороны людей, не покидают присущего им места в мироздании. От богов проистекает только бытие, благо и попечение по отношению к людям (Resp. 508e-509a). В прошлый век, «век Кроноса», это попечение было прямым, в наш век, «век Зевса», оно стало опосредованным. Посредниками выступают космические движения и космическая душа (Politic. 269c и далее). Боги (в лице демиурга и внутрикосмических богов) создали космос и людей. Полубоги / герои прошлого судят человека за его поступки (Gorg. 523e).
У Платона имеются и многозначительные намеки на существование более высокого «порядка» богов (тех, кого неоплатоники будут именовать «сверхкосмическими» богами). Если владыки нашего мира, описанные в «Федре» и «Тимее», могут быть названы «видимыми и рожденными» богами (Tim. 40d), и с легкостью связаны с небесными телами и даже зодиакальными созвездиями (представления Платона станут одним из истоков астральной теологии эллинизма), то от повествования о «Создателе и Отце» всего Платон уклоняется по причине запрета рассказывать о нем (Tim. 28c). Вспомним, что и идея Блага, как вершина всего ноуменального сущего, согласно Платону, также превосходит вообще все и постигаема лишь апофатически.
Все эти воззрения, безусловно, являются реакцией на афинское «вольнодумство» и на потенциальное разрушение чувства социальной ответственности, которым, по его мнению, это вольнодумство было чревато. Вот характерные слова из «Законов» – диалога, где, к слову, содержится первая демонстрация «космологического аргумента» в пользу бытия бога: «Никто из тех, кто согласно с законами, верит в существование богов, никогда намеренно не совершит нечестивого дела, не выскажет беззаконного слова» (Legg. X 885b, пер. А. Н. Егунова).
В связи с этим воспитание – тема, которой посвящена большая часть наследия Платона, имеет связь с его теологическими представлениями. Однако здесь нужно указать на самый главный момент в той образовательной революции, которую совершает Платон. Прежде чем рассуждать о том, чему учить, он задается вопросом о том, что собой представляет ученик, кто тот, кого нужно учить? Это и подразумевает знаменитая сократовская интерпретация дельфийской фразы «Познай самого себя!» Из дельфийского требования выяснения своего социального места этот принцип стал требованием самопознания. Если мы узнаем себя, то поймем, чему нас нужно обучать.
Философское самопознание и педагогика превращаются в единый процесс – ведь даже наставник (Сократ, который знает, что ничего не знает) в процессе воспитания становится другим. И это процесс, результат которого не обеспечивается даже «выходом из пещеры». Поскольку в отличие от богов мы не сохраняем постоянное равенство себе, но находимся в состоянии становления, «примеряя» на себя одну жизнь за другой.
Поэтому природа человека трактуется Платоном как то, что не является ни хорошим, ни дурным. Особенно хорошо это показано в диалоге «Лисид»[73]. Разбирая причины дружеского стремления к лучшему, Сократ выводит там три вида сущего: хорошее, дурное и ни хорошее и ни дурное (Lysis. 216d). Подобное стремится к подобному, но лишь третье, среднее, которое не подобно ни лучшему, ни худшему, способно претерпевать стремление к чему-либо, что от него отличается. Выделение этой «средней» природы необходимо для демонстрации динамической природы человеческой души. Три примера в важнейших платоновских текстах подтверждают это. Первый – «Тимей»: демиург, создавая душу, смешивая ее из противоположных природ, связанных с высшим (неделимым) и низшим (претерпевающим деления), создает средний род сущности, причастный тождественному и иному. В итоге душа, как мировая, так и человеческая, способна, «касаясь» тождественного, высказывать логос о тождественном, иного – об ином (Tim. 35а, 37а). В «Кратиле», рассматривая этимологию имени бога Пана, Сократ говорит, что оно обозначает все, его можно «повернуть и так, и этак», оно может быть истинным и ложным. И чуть ниже Сократ говорит, что Пан – логос или брат логоса, коль скоро он сын Гермеса, который есть бог божественного логоса (Crat. 408b-d). Третий – «Пир». Здесь двойственной природой, бедной и богатой, обладает Эрос (Symp. 203b-e). Материнская «материальная», вечно нуждающаяся природа выражается в его вечной нищете и неопрятности, отцовская «идеальная», богатая – в стремлении к прекрасному.
Основы античной теологии образования: субстанция души не имеет природы в самой себе
Эти тексты с разных сторон свидетельствуют об одной и той же вещи: субстанция человеческой души не имеет природы в самой себе. В нас сочетаются и разум, и благородные страсти, и низменные вожделения (см. «Федр» и «Государство» (Resp. 588с-е)). Эта не-основанность на самой себе является причиной и сократовского методического незнания, и постоянного подчеркивания важности иррационального поэтического и любовного неистовства для постижения чего-то высшего. Выражаясь более современным языком, познавая себя, душа требует помощи наставника, а ее «практики себя», даже опирающиеся на разум и «метод логосов», показывают необходимость более высокой субстанции, которая только и в состоянии обеспечить ее целостность.
Такой субстанцией у Платона выступает божественная сфера, только рациональным образом очищенная от противоречий и нелепостей народной религии. Именно поэтому тема «идей» постоянно дополняется у диалектика-рационалиста Платона темой «богов». Диалектическое мышление философа становится высшим проявлением стремления к благу и к божеству. Одновременно оно является единственным верным средством удерживать себя при любых обстоятельствах на «восходящем» пути, поскольку дает нам навык принимать решения разумно, а не повинуясь страстям.
В связи с этим все образование, анонсированное в текстах Платона и во многом реализовывавшееся в Академии, было связано с постепенным восхождением от гимнастических и мусических занятий, традиционных для общества и сопровождавшихся погружением в ткань «правильных мифов», к выработке вкуса к отвлеченному мышлению и умения использовать его не только при рассмотрении предметов науки, но и обстоятельств собственной жизни. Божественная сфера – «поручитель» того, что такой путь наилучший для нашей постоянно изменчивой души. Недаром Сократ пророчествует в самом конце «Государства», что если мы будем «друзьями самим себе и богам», будем соблюдать справедливость, «то и здесь, и в том тысячелетнем странствии, которое мы разбирали, нам будет хорошо» (Resp. 621d). Как пишет Энтони Лонг о платоновском Сократе, «нам следует исходить из гипотезы, что сократовская религиозность и рациональность в его собственных глазах были полностью консистентны друг другу»[74]. Все перечисленное делает платоновскую образовательную программу столь же консистентной его рациональной теологии[75].
«Частные философские мнения» и богоуподобление как идеал греческого образования
В отношении осмысления религиозных данностей Платон, а вслед за ним Аристотель (в меньшей степени) и стоики (в большей степени) принимали на себя те функции, которые в истории христианской Церкви исполнили Соборы. Конечно, института соборного обсуждения богословских проблем в античности не было и не могло быть, так что «теологии» Платона, Аристотеля, стоиков, эпикурейцев, а затем неоплатоников, оставались частными философскими точками зрения. Однако, их влияние на современное им общество было довольно серьезным. Тем более, что эти «теологии» были самым непосредственным образом связаны с созданием новых образовательных программ, которые уже при жизни Платона привлекали к себе внимание значительного количества интеллектуалов, а после знаменитой дружбы Аристотеля с Филиппом и Александром Македонскими стали безусловной общественной и культурной ценностью.
Наиболее распространенным образом вершины образования становится богоуподобление. Платон в «Теэтете» не без иронии говорит о богоуподоблении ученых, полностью погруженных в созерцание своего предмета мысли и совершенно не заботящихся о делах земных (Theaet. 173d и далее). Однако для Аристотеля эта метафора становится весьма существенным объяснением преимущества жизни ученого перед любой другой формой жизни.
В своей этике Аристотель полагает, что высшим предметом стремления для человека является счастье, которое невозможно без удовольствия. При этом большую часть удовольствий, связанных с чувственностью или честолюбием, он не считает существующими от природы. Подлинные лишь те поступки, которые связаны с любовью человека к прекрасному, а это поступки добродетельные. Они и доставляют самое правильное и беспримесное удовольствие (Nicom. Et. 1099а 15–25).
Само собой привычки вести правильный образ жизни не возникает; в этических сочинениях Аристотель предлагает вырабатывать ее так же, как мы вырабатываем любые наши навыки, т. е. сочетая примеры, убеждения и разумные доводы. Поскольку полис – это общение ради блага (Polit. 1225a 1–10), то побуждает нас быть добродетельными уже простое здравомыслие, наша человеческая политическая природа[76]. Система наук Аристотеля (подразделяющихся на поэтические, практические и теоретические) не представляет собой образовательной последовательности, например, от риторики к «первой философии». Но определенная ценностная разница здесь имеется: теоретические науки, безусловно, выше поэтических (риторика и поэтика) и практических (этика и политика). А самая высшая из теоретических наук – «первая философия», занята изучением наиболее возвышенных, божественных вещей (Met. 982а5–8).
Отметим, что, помимо поведенческих добродетелей, т. е. этических, Аристотель упоминает еще и об интеллектуальных добродетелях (διανοητικὴ), высшей из которых является мудрость. Лишь в совокупности с ними этические добродетели ведут человека к вершине его существования, т. е. к блаженству и к близости божественному. Для человека жизнь созерцательная (т. е. мыслящая) является предпочтительнее практической потому, что мышление – это прерогатива бога, определяемого Аристотелем как мыслящий себя мировой разум, как благая цель и Перводвижитель всего сущего (Met. 1072b 14–30). Мы не в состоянии пребывать в теоретической жизни постоянно, поскольку, будучи «политическими животными», мы все равно возвращаемся в практическое состояние. Однако в наших целях делать этот опыт куда более частым. Аристотель призывает нас: «Нет, не нужно [следовать] увещеваниям „человеку разуметь человеческое“ и „смертному – смертное“; напротив, насколько возможно, надо возвышаться до бессмертия и делать все ради жизни, соответствующей наивысшему в самом себе» (Met. 1177b 32–35). Благодаря этому мудрец может достичь счастья. Счастье же – «это высшее и самое прекрасное [благо], доставляющее величайшее удовольствие… Даже если счастье не посылается богами, а является плодом добродетели и своего рода усвоения знаний или упражнения, оно все-таки относится к самым божественным вещам, ибо наградою и целью добродетели представляется наивысшее благо и нечто божественное и блаженное» (Nicom. Et.1099а24–1099b18. Здесь и далее пер. Н. В. Брагинской).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Заметим, что существительное σχολή как научно-педагогическое понятие появляется уже у Аристотеля, в контексте обсуждения заботы государства о воспитании и образовании граждан (См.: Аристотель. Политика. 1322b 38–39, 1341a 18–1 // Его же. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 586, 639).
2
См.: Куренной В. А. Философия либерального образования: принципы // Вопросы образования. 2020. № 1. С. 8. Единственное, что, пожалуй, в нынешних условиях трудно требовать от социальной среды, частью которой является среда образовательная, так это принцип политической нейтральности.
3
Более подробно об основных образовательных парадигмах: древней (античной); христианской (схоластической, средневековой), новоевропейской (просвещенческой, секулярной) см.: Шмонин Д. В. Технология блага. Очерки теологии образования. М., 2018. С. 11–34; Его же. Религиозное образование и образовательные парадигмы // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2013. Т. 14. № 2. С. 47–64.
4
См. также: Шмонин Д. В. Технология блага. Очерки теологии образования. С. 138–152; Его же. Античные и иудейские религиозно-педагогические компоненты в истории формирования христианской образовательной парадигмы // Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2016. Т. 10. № 1. С. 183–195.
5
Появление собственно богословского элемента в образовании с первых шагов стало сопровождаться боязнью разногласий в описании вероучительных догм. C III в. под влиянием пресвитера Лукиана развивается Антиохийская школа, которая в разное время формирует и еретиков (Арий и ариане), и ортодоксов.
6
В классификации Боэция, например, теоретическая философия разделяется на три уровня, по классам познаваемых объектов: (1) высшее сущее, свободное от материи; (2) умопостигаемое сущее, связанное с материей; (3) естественное сущее, мир природы. Теология нацелена изучение высшего уровня сущего (См.: Боэций. «Утешение Философией» и другие трактаты. М., 1990. С. 9–10. См. также: Исидор Севильский, свт. Этимологии, или Начала в XX книгах. Книги I–III: Семь свободных искусств. СПб., 2006. С. 160–232).
7
An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, daß sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen // Luther M. Ausgewählte Schriften / Hrsg. K. Bornkamm, G. Ebeling. Bd. 5. Frankfurt a.M., 1983. S. 40–72.
8
Predigt, daß man Kinder zur Schule halten solle // Luther M. Ausgewählte Schriften / Hrsg. K. Bornkamm, G. Ebeling. Bd. 5. Frankfurt a.M., 1983. S. 90–139.
9
An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes… S. 28–29.
10
An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes… S. 48.
11
Predigt, daß man Kinder zur Schule halten solle… S. 135.
12
An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes… S. 50.
13
Predigt, daß man Kinder zur Schule halten solle… S. 124.
14
Наиболее известными из их большого числа стали Большой и Малый катехизисы М. Лютера (1529), вошедшие в число символических книг немецкого протестантизма, а также Женевский (1537) и Гейдельбергский (1563) катехизисы.
15
Sermon von dem ehelichen Stand // Luther M. WA. Bd. 2. S. 169.
16
Ebd.
17
Такой пример подал Ф. Меланхтон, основавший в своем виттенбергском приходском доме «частную школу» (schola privata).
18
An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes… S. 29–30.
19
Predigt, daß man Kinder zur Schule halten solle… S. 139; An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes… S. 65.
20
Predigt, daß man Kinder zur Schule halten solle… S. 133.
21
Institutio Christianae Religionis IV, 3, 1.
22
Ioannis Calvini opera quae supersunt omnia / Ed. G. Baum e. a. Berolini, 1863–1900. Vol. 10. Pars 1. Col. 15–16.
23
См. подробнее: Hedtke R. Erziehung durch Kirche bei Calvin. Heidelberg, 1938. S. 36.
24
Melanchton P. De corrigendis adolescentiae studiis // Melanchton deutsch. Bd. 1. Schule und Universität, Philosophie, Geschichte und Politik / Hrsg. M. Beyer e. a. Leipzig, 1997. S. 41–63.
25
Melanchton P. In laudem novae scholae // Ebd. S. 95.
26
Ebd. S. 99–100.
27
Melanchton P. Loci communes 1521: Lateinisch-deutsch / Hrsg. H. Pöhlmann. Gütersloh, 1993. S. 14.
28
Melanchton P. Oratio de necessaria coniunctione scholarum cum ministerio evangelii // Melanchton deutsch. Bd. 2. Gebete, Bibelauslegung, Theologie, Kirchenpolitik / Hrsg. M. Beyer e. a. Leipzig, 1997. S. 25.
29
Melanchton P., Luther M. Unterricht der Visitatorn // WA. Bd. 26. S. 195–240.
30
Такой взгляд выражала популярная в их кругах поговорка «Die Gelehrten, die Verkehrten» («образованные – испорченные»).
31
Следующим уровнем были латинские или тривиальные школы, в которых преподавалась грамматика, риторика и диалектика. Далее следовали «благородные» гимназии (gymnasium illustre), а также университеты, намного более укорененные в прежней католической образовательной традиции.
32
Он называл их «софистами», а католические образовательные учреждения – «ослиными сараями» и «диавольскими школами» (An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes… S. 64).
33
Шмонин Д. В. В тени Ренессанса. Вторая схоластика в Испании. СПб., 2006; Религиозное образование в России и в Европе в XVI веке / Под ред. Е. С. Токаревой, М. Инглота. СПб., 2010.
34
Религиозное образование в России и в Европе в XVI веке…; Религиозное образование в России и в Европе в XVII веке / Под ред. Е. С. Токаревой, М. Инглота. СПб., 2011.
35
García Ahumada Е. (F. S. C.). La Salle y teología de la educación. Rome, 2013.