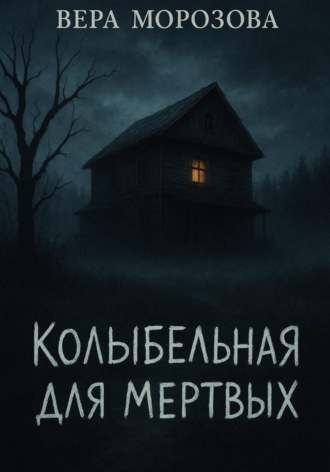
Полная версия
– Да, – подтвердила Анна. Ее голос прозвучал глухо.
– Поливанов составил протокол. Версия – внезапный отъезд к родственникам. Уехали в спешке, дверь захлопнули, щеколда сама повернулась. Бывает.
Сомов говорил это ровным тоном, излагая факты. Но для Анны это звучало как заклинание, попытка придать уродливой, иррациональной реальности приемлемую, стандартную форму.
– У нее нет близких родственников, к которым можно было бы внезапно уехать, – сказала Анна, стараясь, чтобы ее голос не дрожал. – Я проверяла. Есть двоюродная тетка в Мурманской области, но они не общались больше десяти лет.
Сомов медленно повернул голову и посмотрел на нее. В его серых глазах не было ни интереса, ни недоверия. Просто пустота.
– Вы социальный работник, Ковалева. Вы знаете, что написано в личных делах. А я знаю, что люди врут. Всегда. Может, был у нее мужчина. Познакомились, влюбились, решили начать новую жизнь. Собрались за час и уехали на юг. Романтика.
Он подошел к столу и кончиком ручки подцепил котлету в тарелке. Она была серой, застывшей.
– А ужин? – спросила Анна. – Они приготовили ужин и, не притронувшись, уехали на юг?
– Позвонил. Сказал: «Любимая, такси у подъезда, через пять минут поезд». Она все бросила и побежала. Женщины. Они нелогичны.
Это было так просто, так грубо и так неправдоподобно, что Анна на мгновение потеряла дар речи. Он не пытался разгадать загадку. Он просто замазывал ее первым попавшимся, самым примитивным объяснением.
– Посмотрите на кровать в детской, – сказала она, чувствуя, как внутри нарастает холодное раздражение. – Она заправлена. Идеально. Ни единой складки.
Они прошли в маленькую комнату Саши. Полицейский с фотоаппаратом как раз заканчивал съемку.
– Ну и? – Сомов посмотрел на кровать, потом на Анну. – Мать приучила к порядку. Молодец женщина.
– На подушке, – Анна сделала шаг к кровати, – вчера лежал его деревянный конь. Его любимая игрушка. Он с ней не расставался. Никогда.
– Где она сейчас? – в голосе Сомова впервые прозвучала нотка заинтересованности.
Сердце Анны пропустило удар. Она поняла свою ошибку.
– Я… я забрала его, – тихо призналась она.
Сомов молчал несколько секунд. Его лицо не изменилось, но атмосфера в комнате стала тяжелее.
– Вы изъяли вещь с места происшествия? – уточнил он ледяным тоном.
– Это не было местом происшествия, – возразила Анна. – Капитан Поливанов счел это ложным вызовом. Я не могла его там оставить. Он…
Она замолчала, не в силах объяснить, почему. Потому что он был единственным живым свидетелем? Потому что в его пустой глазнице было больше правды, чем во всех их протоколах?
– Игрушку принесете в отдел. Сегодня же. Ее приобщат к делу. А теперь, Ковалева, если у вас нет больше озарений, не мешайте нам работать.
Он отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Анна почувствовала, как щеки заливает краска унижения. Он видел в ней не помощника, не обеспокоенного человека, а экзальтированную дамочку, которая лезет не в свое дело и путается под ногами у профессионалов.
Она не ушла. Осталась стоять в дверях, наблюдая за их работой. Она смотрела не на них, а на квартиру. Пыталась увидеть то, что упустила вчера. И холод, постоянный, невидимый спутник этого места, казалось, становился сильнее. Он не был похож на обычный холод неотапливаемого помещения. Этот был другим. Сухим, пронизывающим, как сквозняк из открытого склепа. Он скапливался в углах, лежал на поверхностях тонким, невидимым инеем. Анна потерла плечи, но это не помогало.
Эксперт закончил с ручками и перешел к подоконнику. Сомов стоял посреди комнаты, засунув руки в карманы, и диктовал что-то своему помощнику, который строчил в блокноте. Они говорили на своем языке, языке протоколов: «визуальный осмотр, следы борьбы, проникновение». Все с приставкой «не обнаружено».
Анна подошла к настенным часам на кухне – дешевым, пластиковым, с нарисованным на циферблате пухлым поваренком. Стрелки по-прежнему показывали одиннадцать часов семь минут.
– Часы стоят, – сказала она громче, чем хотела.
Сомов обернулся.
– Батарейка села. Обычное дело.
– И холодильник выключен из розетки, – не унималась Анна. – Зачем выключать холодильник перед внезапным отъездом на юг? Там же продукты.
Сомов тяжело вздохнул, как человек, чье терпение подходит к концу. Он подошел к холодильнику, открыл его. Внутри было почти пусто. Пакет молока, половина батона, кусок сыра в пленке. Запаха не было.
– Размораживали, может. Перед отъездом. Чтобы не испортилось ничего, – он говорил это уже без всякой уверенности, просто по привычке находя объяснения. Он закрыл дверцу. Посмотрел на розетку. Вилка действительно лежала на полу.
– Странно, – процедил он сквозь зубы. И тут же добавил, словно спохватившись: – Но не криминал.
В этот момент молодой эксперт, работавший у окна в большой комнате, сказал:
– Капитан. Подойдите сюда.
Сомов и Анна одновременно повернулись к нему. Эксперт сидел на корточках у балконной двери.
– Что там, Лазарев?
– Не знаю. Смотрите.
Они подошли. Балконная дверь была старой, деревянной, с облупившейся белой краской. Между рамами, как это бывало в советских домах, на зиму были уложены комки ваты. Но внимание эксперта привлекло не это. Он указывал на нижнюю часть двери, на щель между дверью и порогом.
– Видите? – сказал Лазарев. – Паутина.
И действительно, тонкая, почти невидимая нить паутины была натянута от самого низа дверного полотна до деревянного порога. Она была целой, нетронутой. Покрытая мельчайшими частичками пыли, она слабо поблескивала в свете лампы.
– Дверь не открывали давно, – констатировал эксперт. – Минимум несколько дней. Иначе бы ее сорвало.
Сомов нахмурился, глядя на паутину. Это была первая деталь, которая не укладывалась в его версию «романтического побега». Люди, уезжающие в спешке, не выходят через стены. Они выходят через двери. А эта дверь, единственный выход на маленький, захламленный балкон, была запечатана природой.
– Окна? – спросил он, поворачиваясь к другому полицейскому.
– Закрыты на внутренние шпингалеты. Все, – доложил тот.
Тишина в квартире снова сгустилась. Та самая, неправильная тишина. Даже полицейские, казалось, почувствовали ее. Они перестали шуметь, их движения стали медленнее. Сомов несколько секунд смотрел на паутину, его челюсть напряглась. Он думал. Пытался сложить новую картину, но детали не сходились. Дверь заперта изнутри. Окна закрыты изнутри. Балконная дверь тоже. Люди исчезли.
– Может, ушли, а потом кто-то вернулся и закрыл изнутри? – предположил помощник с блокнотом.
– Кто? Сын-шестилетка? У которого ключ под ковриком? – отрезал Сомов. – Не смеши.
Он снова посмотрел на Анну. В его взгляде уже не было снисходительности. Появилось что-то другое – тяжелое, смутное раздражение от столкновения с тем, что не имело простого и ясного ярлыка.
– Соседка, – вдруг вспомнила Анна, цепляясь за последнюю ниточку. – Пожилая женщина из сорок первой квартиры. Она слышала…
– Да, да, Поливанов записал, – нетерпеливо перебил Сомов. – Слышала колыбельную. Всю ночь. Баба Маша, восемьдесят два года. У нее слуховой аппарат и телевизор «Рекорд», который фонит так, что в соседнем подъезде слышно. Ковалева, показаниям таких свидетелей грош цена в базарный день.
Он сказал это, но его взгляд метнулся в сторону детской. В сторону идеально заправленной кровати, на которой больше не было маленького деревянного коня.
Они провели в квартире еще около часа. Эксперт снял отпечатки. Их было немного – смазанные отпечатки Ольги на кухонных поверхностях, несколько детских на спинке стула. Ничего чужого. Никаких следов борьбы, никаких пятен, которые могли бы оказаться кровью. Ничего. Квартира была не просто чистой. Она была вычищенной от самой жизни. Словно невидимый ластик прошелся по ней, стерев все следы пребывания здесь двух человек, оставив лишь аккуратные, безжизненные декорации.
Когда они начали собираться, Анна стояла у окна в большой комнате. Она смотрела вниз, во двор. Серая морось все так же висела в воздухе. Детская площадка была пуста. Качели, на которые она смотрела вчера, были неподвижны. И вдруг она заметила кое-что еще. На земле, под качелями, лежал красный резиновый мячик. Он был тусклым от влаги, присыпанный мокрыми листьями. Она вспомнила, как видела Сашу, игравшего с этим мячом неделю назад. Он ни за что не оставил бы его на улице. Ольга всегда заставляла его убирать игрушки.
Это была еще одна крошечная, незначительная деталь. Мячик. Паутина. Холодный ужин. Остановленные часы. Выключенный холодильник. Заправленная кровать. Каждая по отдельности – пустяк, случайность. Но вместе… Вместе они складывались в узор. Уродливый и пугающий.
Сомов подошел к ней сзади.
– Ну что ж, Ковалева. На данный момент у нас нет оснований возбуждать уголовное дело. Нет тела – нет дела. Нет следов преступления. Мы объявим их в розыск как без вести пропавших. Опросим соседей, проверим больницы, вокзалы. Стандартная процедура. Квартиру опечатаем. Если через пару дней не объявятся – будем думать дальше.
Он говорил это устало. Официальная версия трещала по швам, но он держался за нее, потому что альтернативы были либо слишком сложными, либо слишком пугающими.
– Они не уехали, – тихо, но твердо сказала Анна, не оборачиваясь. – Они не могли уехать. Их забрали.
– Кто забрал? – в голосе Сомова прозвучал металл. – И как? Через запертые двери? Телепортировали? Ковалева, я понимаю, вы переживаете за своих подопечных. Это ваша работа. Но не надо придумывать чертовщину там, где ее нет.
– А что здесь есть? – она наконец повернулась и посмотрела ему в глаза. – Какая ваша версия теперь, капитан? Они приготовили ужин, выключили холодильник, остановили часы, а потом просочились сквозь стену, аккуратно заперев за собой дверь изнутри?
Его лицо окаменело.
– Моя работа – оперировать фактами. А факт в том, что в этой квартире нет ничего, что указывало бы на насильственное преступление. Все остальное – ваши домыслы. Игрушку жду у себя в кабинете. До двенадцати.
Он развернулся и вышел из комнаты. Через несколько минут квартира опустела. Остался лишь запах табака и химикатов, который быстро растворялся в неподвижном, холодном воздухе. Последний полицейский вышел, и новый замок щелкнул. Анна осталась на площадке, глядя на свежую бумажную печать.
Она проиграла. Ее попытка достучаться до системы, заставить ее увидеть то, что видела она, провалилась. Для них это был очередной «висяк», странный, но не выходящий за рамки возможного. Бюрократическая машина покрутит свои шестеренки и остановится в ожидании новых данных. А Ольга и Саша Суриков останутся там, в этой бездне, куда они провалились в ночь со вторника на среду.
Она медленно спускалась по лестнице. Каждый шаг отдавался гулким эхом в бетонной коробке подъезда. Из-за двери бабы Маши снова донесся короткий, тревожный лай собаки.
Сев в машину, Анна не сразу завела мотор. Она сидела и смотрела на свои руки, лежащие на руле. Они слегка дрожали. Она чувствовала себя не просто проигравшей. Она чувствовала себя виноватой. Виноватой в том, что не смогла убедить, не смогла заставить их поверить. И еще она чувствовала страх. Не тот острый страх, что бывает перед лицом явной угрозы, а другой – тупой, ноющий, постоянный. Страх перед тем, что не имеет имени и формы.
Она знала, что Сомов прав в одном. Его работа – оперировать фактами. Но то, что случилось в этой квартире, лежало за пределами привычных фактов. Оно подчинялось другой логике, другим законам. И чтобы понять их, нужно было смотреть по-другому. Не глазами полицейского, ищущего следы взлома и борьбы, а… как-то иначе.
Она завела двигатель. Прежде чем ехать в отдел, чтобы отдать деревянного коня, она должна была заехать в одно место. В свой офис. Ей нужны были все материалы по семье Суриковых. И не только по ним. Ей нужно было проверить старые дела. Все странные, нераскрытые случаи в ее практике. Все истории о людях, которые однажды просто исчезли из своих запертых домов, оставив после себя лишь холод и тишину.
Ощущение чужого, зловещего присутствия, которое она чувствовала в квартире, не отпустило ее. Оно вышло вместе с ней и теперь сидело рядом, на пассажирском сиденье, там, где вчера лежал деревянный конь. Оно было невидимым, безмолвным, но от его ледяного дыхания туман за окнами казался еще гуще.
Анна поняла, что больше не может просто ждать. Не может надеяться на полицию, на их протоколы и стандартные процедуры. То, что забрало Ольгу и Сашу, не оставило следов для криминалистической экспертизы. Но оно оставило другие следы. Нарушенную паутину реальности. И она, Анна Ковалева, социальный работник, должна была пойти по этому следу. Одна. Потому что никто другой его просто не видел. Расследование капитана Сомова закончилось, не успев начаться. Ее собственное – только начиналось.
Эхо в архиве
Здание городского архива помещалось в бывшем доме культуры, построенном еще в те времена, когда вера в светлое будущее была таким же обязательным строительным материалом, как цемент и силикатный кирпич. Теперь эта вера выветрилась, оставив после себя лишь облупившуюся штукатурку на колоннах и пустые глазницы окон, за которыми давно погасли огни репетиционных залов. Анна припарковала «Ладу» у заросшей бурьяном клумбы, где из земли торчал ржавый скелет металлического тюльпана. Туман здесь, на окраине, был гуще, он цеплялся за голые ветви старых лип, превращая их в подобие костлявых, просящих милостыню рук.
Воздух внутри здания был неподвижным и тяжелым. Он пах не просто пылью, а чем-то более сложным: смесью тлеющей бумаги, мышиного помета и едва уловимой нотки нафталина – запахом времени, спрессованного в плотные стопки и забытого. За конторкой из темного, потрескавшегося лака сидела женщина неопределенного возраста, с высокой прической, которая казалась такой же окаменевшей, как и выражение ее лица. На груди у нее висел бейджик: «Зинаида Павловна, хранитель фондов».
Анна объяснила, что ей нужно, стараясь, чтобы голос звучал как можно более официально. Ее интересовали полицейские отчеты и газетные подшивки за последние тридцать-сорок лет. Дела о пропаже людей.
Зинаида Павловна посмотрела на нее поверх очков в роговой оправе взглядом, который одновременно выражал и скуку, и подозрение.
– Запрос по форме есть?
– Я из социальной службы, веду дело… – начала Анна, но женщина прервала ее вялым движением руки.
– Мне все равно, хоть из самого министерства. Порядок для всех один. Запрос. С печатью.
Анна почувствовала, как внутри поднимается глухое раздражение. Она приехала сюда не из праздного любопытства. Она приехала, потому что в мире образовалась дыра, в которую провалились мать и ребенок, а эта женщина защищала свои бумажные владения с упорством цербера.
– Послушайте, это срочно. Пропали люди. Семья Сурикова, может, слышали?
– Фамилии не запоминаю. Только номера дел, – отрезала Зинаида Павловна, возвращаясь к разгадыванию кроссворда.
Анна положила на конторку удостоверение. Потом, после секундного колебания, положила рядом с ним сложенную вдвое купюру. Не большую, но заметную.
Хранитель фондов не посмотрела на деньги. Она медленно подняла глаза на Анну. В них не было ни жадности, ни интереса. Только усталость.
– Уберите, – сказала она тихо, но так, что Анна почувствовала себя оплеванной. – Думаете, мне это надо? Мне покой нужен. А вы все ходите, прошлое ворошите. Оно мертвое, пусть спит.
Анна убрала деньги, чувствуя, как горят щеки.
– Мне очень нужно, – сказала она просто. – Пожалуйста.
Возможно, что-то в ее голосе, лишенном теперь официального тона, затронуло в этой женщине что-то, еще не до конца окаменевшее. Зинаида Павловна долго смотрела на нее, потом тяжело вздохнула, словно сдвигая с плеч невидимый груз.
– Ладно. Только не шуметь. И все вернуть на место. Читальный зал прямо по коридору. Что именно ищете?
– Дела о пропавших без вести. Целыми семьями. Где не было следов взлома.
Женщина нахмурилась, в ее глазах промелькнуло что-то похожее на воспоминание.
– Бывало такое, – пробормотала она себе под нос. – Странные дела. Глухие.
Она выдала Анне несколько объемистых папок, перевязанных выцветшими тесемками, и стопку пожелтевших газетных подшивок.
Читальный зал оказался большой, холодной комнатой с высокими потолками, с которых свисали на длинных шнурах лампы под зелеными абажурами. Лишь три из них горели, отбрасывая на длинный стол круги тусклого, неживого света. Анна села за самый дальний стол, чувствуя себя крошечной и одинокой в этом гулком пространстве. Тишина здесь была не просто отсутствием звука. Она была плотной, осязаемой, она давила на барабанные перепонки.
Первые несколько часов были пыткой. Анна погрузилась в сухой, безжизненный мир казенных отчетов. Слова были одинаковыми, словно отлитыми из одного металла: «в ходе оперативно-розыскных мероприятий», «признаков насильственной смерти не обнаружено», «круг общения установлен». За этими фразами терялись человеческие трагедии. Семьи, которые уезжали в отпуск и не возвращались. Мужчины, уходившие на работу и растворявшиеся в утреннем тумане. Подростки, сбегавшие из дома. Все это было не то. В каждом из этих дел была зацепка, логика, пусть и уродливая: долги, ссоры, тайные связи. Были следы.
Дело Суриковых было другим. Оно было идеально гладким, без единой трещины, в которую мог бы проникнуть луч здравого смысла. И Анна искала не просто похожие исчезновения. Она искала такую же гладкость. Такую же противоестественную пустоту.
Она работала с методичной, холодной яростью, перебирая папки, вдыхая сухой, минеральный запах старой бумаги, похожий на смесь толченого мела и высохших насекомых. Ее пальцы покрылись серым налетом. Глаза начали болеть от тусклого света и мелкого шрифта. Время утратило свою линейность, превратившись в вязкую, однородную массу, состоящую из шороха страниц и гудения тишины в ушах.
Она нашла это, когда уже почти потеряла надежду. Папка с делами за 1994 год. Дело семьи Филатовых. Отец, мать, дочь восьми лет. Жили в такой же панельной пятиэтажке на другом конце города. Пропали. Участковый, вызванный обеспокоенной коллегой матери, вскрыл дверь. Внутри – идеальный порядок. На кухонном столе – три тарелки с нетронутым ужином. Дверь заперта изнутри на два оборота. Все окна закрыты.
Анна почувствовала, как тонкая ледяная игла скользнула вдоль позвоночника. Она перечитала отчет дважды. Детали совпадали с пугающей точностью. Она листала дальше, пробираясь сквозь протоколы допросов, и наткнулась на показания соседки, пожилой женщины. Фраза, записанная уставшим следователем, была короткой и лишенной эмоций: «Свидетельница Пугачева М.И. пояснила, что в ночь предполагаемого исчезновения слышала из квартиры Филатовых тихую музыку, похожую на колыбельную. Музыка была монотонной и повторяющейся. Других звуков не слышала».
Дальше в деле была пометка, сделанная другим почерком: «Показания свидетеля Пугачевой ввиду ее преклонного возраста и склонности к фантазированию считать несущественными».
Колыбельная.
Это слово зазвенело в тишине читального зала. Оно было ключом. Невидимой нитью, связывающей два десятилетия. Это не было доказательством, но это было эхо. Ощущение, что она крикнула в бездну и услышала слабый, но отчетливый отклик.
Воодушевленная, она стала работать быстрее, лихорадочно. Теперь она знала, что искать. Она отложила полицейские отчеты, слишком стерильные и вычищенные от всего «несущественного». Она взялась за газетные подшивки. Газеты – это слухи, домыслы, человеческие голоса.
«Тихогорский вестник». Листы были хрупкими, как осенние листья, и пахли так же. Она перебирала страницы, скользя взглядом по заголовкам, рассказывающим о сборе урожая, партийных съездах, открытии новых магазинов. Жизнь города, застывшая в выцветших чернилах.
И снова удача. 1978 год. Крошечная заметка на последней полосе, в рубрике «Происшествия». «Таинственное исчезновение». Семья Мельниковых – двое пожилых супругов. Пропали из запертого частного дома. Соседи ничего не видели. И в конце, как незначительная деталь: «Некоторые жители улицы утверждают, что накануне всю ночь слышали странный, протяжный звук, похожий на пение, но источник звука установить не удалось».
Снова пение. Снова запертый дом. Снова зияющая дыра в ткани повседневности. Анна чувствовала себя археологом, который по едва заметным признакам в почве восстанавливает контуры огромного, погребенного под землей строения. Эти случаи были его колоннами, невидимо поддерживающими свод чего-то древнего и страшного.
Она вернулась к папке 1994 года. Раз уж полиция тогда проигнорировала упоминание колыбельной, может, об этом написали в газетах? Она разложила перед собой подшивку «Вестника» за тот месяц, когда пропали Филатовы. Искала любую заметку, любое упоминание. И нашла.
Это была не статья, а скорее колонка мнений, короткое интервью на полосе с письмами читателей. Заголовок был едким: «Краевед и домовые». В центре – небольшая, зернистая фотография молодого человека. У него были темные, густые волосы, напряженный, почти горящий взгляд и тонкие, плотно сжатые губы. Он не смотрел в камеру, его взгляд был устремлен куда-то в сторону, словно он прислушивался к чему-то, чего не слышал фотограф. Подпись гласила: «Арсений Грошев, историк».
Анна впилась глазами в текст. Журналист с плохо скрываемой иронией писал о «молодом энтузиасте», который пытается связать недавнее исчезновение семьи Филатовых с «древними городскими легендами». Грошев говорил о «поющих духах», о «Полуночнице», которая приходит в дома, отмеченные горем или одиночеством. Он утверждал, что странная музыка, о которой шепчутся соседи, – это не выдумка, а ключ к разгадке, древний маркер, который официальное следствие в своей косности просто не способно распознать.
Статья была написана в уничижительном тоне. Слова Грошева были вырваны из контекста и поданы как бред сумасшедшего. В конце журналист язвительно советовал «уважаемому историку» оставить криминалистику профессионалам и сосредоточиться на изучении глиняных черепков. Там же был и короткий комментарий от представителя милиции, который называл теории Грошева «ненаучным бредом, мешающим следствию и порождающим панические слухи».
Анна откинулась на спинку стула. Воздух не проходил в легкие. Арсений Грошев. Вот оно. Имя. Человек, который двадцать лет назад видел тот же узор, что и она сейчас. Человек, который пытался кричать, но его никто не слушал. Его высмеяли, заткнули, превратили в городского сумасшедшего.
Она посмотрела на фотографию. Напряженный взгляд молодого человека, казалось, проникал сквозь десятилетия и смотрел прямо на нее. Он не был похож на безумца. Он был похож на человека, который увидел нечто ужасное и отчаянно пытается предупредить других, но те лишь смеются и крутят пальцем у виска.
«Архив закрывается через пятнадцать минут», – раздался за спиной бесцветный голос Зинаиды Павловны.
Анна вздрогнула. Она и не заметила, как пролетел день. Свет в высоких окнах давно угас, и теперь читальный зал тонул в густых вечерних тенях, из которых его вырывали лишь три тусклых световых круга. Она чувствовала себя так, словно вынырнула на поверхность из большой глубины.
Она быстро, но аккуратно сложила папки и подшивки. Прежде чем отнести их обратно, она еще раз открыла газету. Арсений Грошев. Она запомнила это имя. Она впечатала его в свою память. Это была ее единственная нить.
Когда она вышла из здания архива, на улице была уже ночь. Туман стал плотным и белым, как молоко. Редкие фонари пробивались сквозь него мутными, расплывчатыми пятнами. Город утонул. Тишина казалась абсолютной. Но теперь для Анны эта тишина была обманчивой. Она знала, что под ее покровом, в ее глубине, иногда начинает звучать песня. Тонкая, как ниточка. Монотонная.
Она села в машину. Холодный пластик руля обжег пальцы. Она не стала сразу заводить двигатель. Она сидела в темноте и смотрела на белую мглу, скрывшую мир. Раньше она боролась с человеческим горем, с бедностью, с отчаянием. С тем, что можно было понять, измерить, попытаться исправить. Теперь она столкнулась с чем-то другим. С пустотой, которая умела петь.
И был человек, который, возможно, слышал эту песню раньше. Который дал ей имя. Арсений Грошев. Жив ли он еще? И если да, захочет ли он говорить после того, как его однажды заставили замолчать? Анна не знала. Но знала, что должна его найти. Потому что он был единственным, кто не назвал бы ее сумасшедшей. Потому что двадцать лет назад он уже стоял на краю той же самой бездны, в которую теперь заглядывала она.









