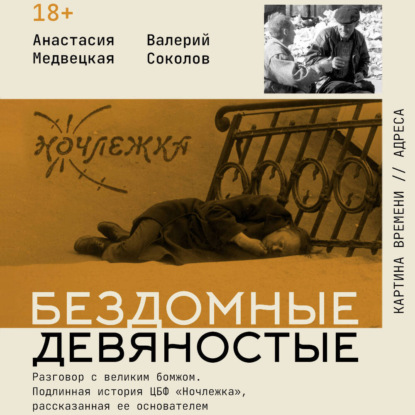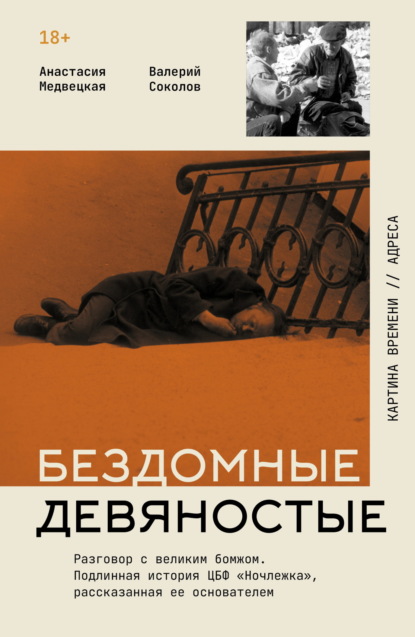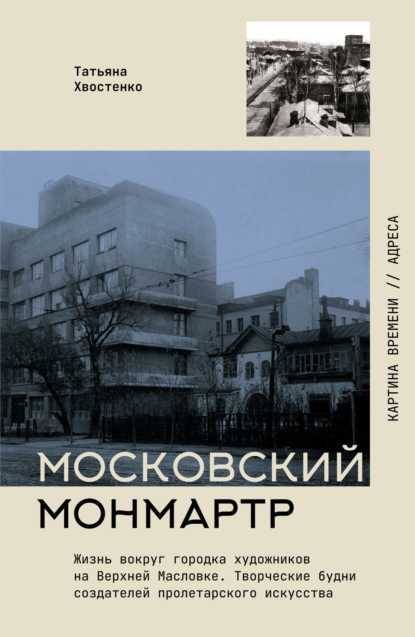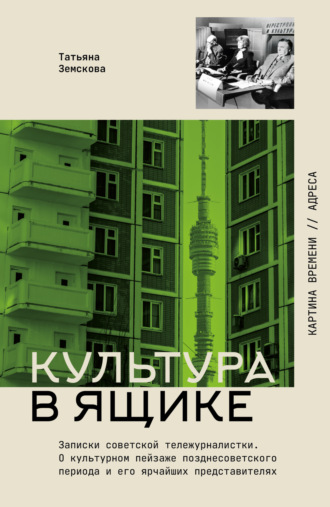
Полная версия
Культура в ящике. Записки советской тележурналистки
Его уход в историю славянства, интерес к былинным героям – это стремление убежать, скрыться от обыденности повседневной жизни, и кадр за кадром, как свиток на картине «Человек с филином», раскручивали мы короткую и совсем не легкую жизнь нашего героя.
В поселке сохранился дом, где жил Васильев, сейчас там устроили небольшой музей. Обстановка в доме, по нынешним представлениям, уж совсем скромная, если не сказать – бедная: старенький радиоприемник, громоздкий магнитофон, проигрыватель 1960‐х годов, пластинки с классической музыкой, палитра, краски, убогая мебель. На стуле – единственный парадный пиджак Константина, на котором он кисточкой разбросал модные в те времена крапинки.
Денег в семье всегда не хватало. Умер отец, тяжело болела младшая сестра Людмила. Константину все время приходилось менять работу: учитель рисования в школе, художник-декоратор на стекольном комбинате; подрабатывал он и в обсерватории, что находилась недалеко от поселка. Видимо, его, как и философа Канта, всегда влекло звездное небо и нравственный закон внутри.
– Беднота была та еще! – вспоминала соседка Васильевых Капитолина Сухорукова. – Жили тяжело, скудно. А тогда БАМ[2] гремел. Я сказала Косте: «Съездил бы ты на БАМ и написал тамошних героев. Сразу прославишься – и деньги появятся». Но он отказался.
Тем не менее в крошечной мастерской девятнадцатилетний Васильев нарисовал знаменитые графические портреты композиторов: Бетховен, Вагнер, Шопен, Лист, Шостакович. Друзья художника отмечали, что эти рисунки – не просто портретные изображения, скорее фрагмент самой музыки, ее слепок.
«Посмотрите, – говорили они, – как выразителен у него Шостакович. Всего семь линий! Как будто порванные струны».
Почти все участники фильма рассказывали, что музыка была второй страстью Васильева, хотя в доме не было никаких музыкальных инструментов. Он просто слушал пластинки: конечно, классическую музыку, любил Шостаковича, и даже Шенберга. Было время, когда он увлекался импрессионизмом, как в живописи, так и в музыке. Васильев и сам сочинял так называемую «конкретную музыку», то есть записывал голоса птиц, скрип дверей, журчание воды, кудахтанье кур.
– Кто-то сверху диктовал ему образы и сюжеты, – говорил астроном Олег Шорников. – Боги древних как бы подавали Васильеву руку. Вся его живопись направлена против вектора времени.
– Он не был ни язычником, ни христианином, – подхватывал Геннадий Пронин. – Он не был комсомольцем, и за границей никогда не был… И в то же время Васильев – многосторонняя богатейшая личность.
По воспоминаниям друзей, деталям и подробностям мы продолжали изучать детали жизни Константина Васильева. В 33 года он написал портрет Достоевского, а последний, 34-й год его жизни, был особенно насыщенным. Он ездил в Москву, встречался с друзьями. Илья Глазунов обещал посодействовать в организации персональной выставки. Но что-то не сложилось, выставка не состоялась, Константин Васильев вернулся домой. Он написал знаменитый автопортрет, на котором художник удивительно похож на Достоевского. Но вот странность: лицо – молодое, а глаза – глубокие, даже провалившиеся, в них затаилась роковая обреченность. Кажется, что это глаза очень старого человека. Самая последняя его работа – «Человек с филином»: картина-символ, картина-загадка, картина-знак.
– Филин в древней мифологии символизирует знание о смерти… Этой картиной Васильев создал собственный миф о главных смыслах бытия, – говорил нам протоиерей Игорь Цветков, в молодости друживший с Васильевым. – Думаю, Константин стоял на пороге громадного художественного открытия. После того, как был написан «Человек с филином», он отправился с моим братом в трудное путешествие по Марийским лесам. Возвратившись, сказал: «Теперь я знаю, как надо писать». Но какая-то сила остановила его. После этого он прожил всего лишь неделю.
Да, жизнь его оборвалась так неожиданно.
Мы снимали станцию «Лагерная», где осенью 1976 года на железнодорожной насыпи обнаружили Константина Васильева с проломленной головой.
Снимали и могилу художника на тихом сельском кладбище в поселке Васильево. На надгробном камне была изображена палитра с кистью и красками, над ней – надпись: «Константин Васильев (1942–1976), народный художник».
– Он ведь не имел ни званий, ни наград. Даже не был членом Союза художников, – поясняла сестра Васильева. – Когда я заказывала памятник, попросила написать только имя и фамилию, но мастер сам приписал эти слова: народный художник. «Почему же не народный, – удивился он, – когда весь народ его знает?»
Потом Валентина произнесла негромко: «Как же символична судьба брата! Родился под грохот канонады, а умер под стук колес».
Уже в Москве, когда мы монтировали фильм, отыскали редкую хронику, запечатлевшую Константина Васильева живым. Выставка в Зеленодольске, 1976 год, буквально за месяц-полтора до гибели. На художнике – тот самый пиджак в крапинку, который мы видели в музее, лицо – молодое, светлое, одухотворенное. Он благодарил людей, пришедших на выставку, кланялся и застенчиво улыбался. Казалось, вся жизнь впереди.
Прошло немало лет после показа фильма на канале «Культура». И снова в моей жизни появилось это имя – Константин Васильев. В социальных сетях я познакомилась с замечательной женщиной, поэтом Екатериной Марковой. Она красавица-дочь поэта Сергея Маркова, сама пишет интересные стихотворения. Однажды на экране компьютера я увидела фотографию Кати, а рядом изображение картины Васильева «Ожидание»: девушка со свечой в руках, стоящая за морозным стеклом. Показалось, что это одно и то же прекрасное, нездешнее лицо. И правда, Катерина Маркова в какой-то степени стала моделью художника.
Когда Васильев приезжал в Москву он останавливался в маленькой квартирке Марковой и ее мужа, художника Козлова, на Севастопольском проспекте. Там он писал портрет Достоевского и то самое «Ожидание». Видимо, лицо Катеньки Марковой возникало в его воображении, когда он создавал удивительные женские образы. А маленького князя на картине «Евпраксия» Васильев рисовал с сына Кати – Емельяна, который в то время был совсем ребенком.
После гибели художника Екатерина написала стихи, посвященные образу Евпраксии. А может быть, эти строки дарованы самому Константину Васильеву.
Приду незваной и непрошеной,С своей пожизненною ношею.Тобой, конечно, нелюбимая,Как грусть моя неутолимая.В другой какой-то ипостаси яИ снова назовусь Евпраксией.Скажу, что нет другого имени,Скажу за прошлое прости меня.4. Девочка в сером платьице
Я опять рассматриваю картинки на моей кухне, связанные с работой на канале «Культура». Собор в городе Великий Новгород. Когда это было и что с ним связано? В памяти всплывает имя поэта Серебряного века – Зинаиды Гиппиус. В 2004 году мы снимали о ней фильм в рубрике «Избранное. ХХ век».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Анатолий Богданович. Размышление у реки «Свияжск».
2
Байкало-Амурская магистраль.