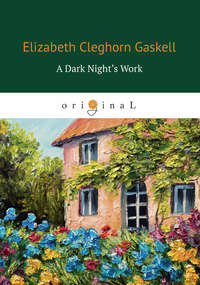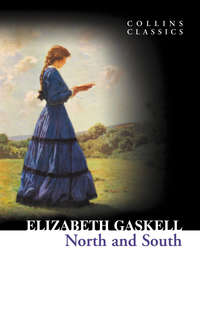Полная версия
Леди Ладлоу

Элизабет Гаскелл
Леди Ладлоу
© Перевод. Е. А. Ильина, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
* * *Глава 1
Теперь я стара, и все вокруг выглядит иначе, нежели в дни моей юности. Прежде мы путешествовали в каретах, вмещавших в себя по шесть человек, и проделывали за два дня путь, который нынче преодолевают всего за пару часов: проносятся мимо на бешеной скорости с шумом и таким пронзительным свистом, что недолго и оглохнуть. Письма прежде приходили всего трижды в неделю, а в некоторых отдаленных уголках Шотландии, где мне приходилось живать в молодости, почту доставляли и того реже, раз в месяц, но зато это были письма так письма. Мы их чрезвычайно ценили, перечитывали и изучали, как книги. Нынче же почтовый дилижанс с грохотом прокатывается по улице дважды в день, доставляя коротенькие обрывочные записки без начала и конца, порой содержащие всего одно предложение, которое благовоспитанные люди сочли бы слишком отрывистым, чтобы произносить его вслух. Да-да-да! Возможно, все это перемены к лучшему, не спорю, но теперь вы уже не встретите такой дамы, какой была леди Ладлоу.
Я попробую вам о ней рассказать. Впрочем, это даже не рассказ, ибо у него нет ни начала, ни середины, ни конца.
Батюшка мой был бедным священником, обремененным многочисленным семейством. Про мою матушку говорили, что в ее жилах течет благородная кровь, и, когда ей хотелось напомнить об этом окружающим – преимущественно богатым фабрикантам-демократам, которые говорили только о свободе и Французской революции, – она надевала гофрированные манжеты, отороченные настоящим английским кружевом ручной работы (к слову сказать, не раз подвергавшимся штопке), коих нельзя было купить ни за какие деньги, ибо искусство плетения подобного кружева было утрачено много лет назад. По ее словам, эти манжеты свидетельствовали о том, что ее предки имели вес в обществе, в то время как деды богатеев, взиравших на нее сверху вниз, были никем, если, конечно, эти деды вообще существовали. Не знаю, замечал ли кто-нибудь за пределами нашего семейства существование этих манжет, но мы с детства приучились испытывать неподдельное чувство гордости, когда видели их на руках нашей матери, и держать головы высоко, как и надлежало потомкам леди, ставшей первой обладательницей этого кружева. Мой дражайший батюшка часто говаривал, что гордыня – великий грех. Впрочем, нам позволяли гордиться лишь манжетами нашей матушки, но она выглядела такой невинно-счастливой, когда их надевала – частенько к поношенному и изрядно залатанному платью, бедняжка! – что я, даже несмотря на свой богатый жизненный опыт, по-прежнему считаю их благословением нашего семейства.
Вы можете подумать, будто я позабыла о леди Ладлоу. Вовсе нет. Дело в том, что и моя матушка, и леди Ладлоу имели общую прародительницу Урсулу Хэнбери, первую обладательницу бесценного кружева. Так уж вышло, что после смерти нашего несчастного батюшки моя мать совершенно растерялась: не в силах справиться со своими девятью детьми, отчаянно искала, кто вызвался бы оказать ей посильную помощь, и неожиданно получила письмо от леди Ладлоу, которая выразила желание оказать ей содействие и поддержку. Я как сейчас вижу это письмо – большой лист плотной желтой бумаги с оставленными на левой стороне прямыми широкими полями, испещренный ровными строчками. Благодаря изящному тонкому почерку оно содержало гораздо больше слов, нежели эти современные послания, написанные в размашистой мужеподобной манере. Письмо было запечатано гербовой печатью в форме ромба, поскольку леди Ладлоу овдовела. Мать указала нам на девиз «Foy et Loy» и на четыре составляющие герба рода Хэнбери и лишь после этого распечатала письмо. Мне кажется, она немного опасалась его содержания, поскольку, как я уже сказала, движимая трепетной любовью к своим осиротевшим детям, она отправила множество писем разным людям, у которых, по правде говоря, не имела права требовать помощи, и их холодные, жестокие ответы не раз заставляли ее плакать, когда она думала, что ее никто не видит. Затрудняюсь сказать, встречалась ли она когда-нибудь с леди Ладлоу лично. Тогда я знала лишь, что это очень знатная дама, чья бабка приходилась сводной сестрой прабабушке моей матери, но ничего не могла сказать ни о ее характере, ни о материальном положении, и в этом отношении, как мне кажется, мало чем отличалась от собственной матери.
Я склонилась над матерью, чтобы прочитать письмо, которое начиналось словами: «Дорогая кузина Маргарет Доусон…» – и это тотчас же породило в моей душе искорку надежды. Далее она писала… постойте-ка, кажется, я помню содержание письма дословно:
«Дорогая кузина Маргарет Доусон, с огромным прискорбием узнала я о постигшей вас утрате, ибо мой покойный кузен Ричард всегда слыл добрым любящим мужем и всеми уважаемым священником».
– Вот! – воскликнула мать, ткнув пальцем в первый абзац. – Прочти это вслух малышам. Пусть знают, как далеко распространилась добрая слава об их отце и как хорошо отзываются о нем те, кого он никогда не видел. Кузен Ричард! Как славно написала о нем ее светлость. Продолжай, Маргарет! – Мать отерла глаза и приложила палец к губам, дабы успокоить мою младшую сестру Сесилию, которая, совершенно не осознавая важности письма, принялась болтать и шуметь.
– «Вы пишете, что остались одна с девятью детьми. У меня тоже было бы столько же, если б все мои дети выжили. Но остался один Рудольф – нынешний лорд Ладлоу. Он женат и большую часть времени проводит в Лондоне. Однако в моем доме в Коннингтоне проживают шесть благородных юных девиц, к которым я отношусь как к дочерям, разве что несколько ограничиваю в нарядах и пище, ибо излишества себе могут позволить юные леди более высокого происхождения, обладающие достаточным состоянием. Эти юные создания – все из хороших семей, но без средств к существованию – составляют мое повседневное общество, и я стараюсь выполнять свой христианский долг по отношению к ним. В мае прошлого года одна из девиц скончалась в отчем доме, куда поехала навестить родителей. Так не окажете ли вы мне любезность, позволив своей старшей дочери занять ее место в моем доме? Ей, по моим подсчетам, как раз исполнилось шестнадцать лет, и под моей крышей она найдет себе подруг примерно такого же возраста. Я сама покупаю своим юным воспитанницам платья и снабжаю их небольшим количеством карманных денег. У них не так уж много возможностей подыскать себе достойного супруга, поскольку Коннингтон находится на некотором отдалении от сколько-нибудь крупных городов. Местный священник – старый глухой вдовец, мой управляющий женат, а что до живущих по соседству фермеров, то они, конечно, не заслуживают внимания благородных юных леди, пользующихся моим покровительством. Впрочем, если кто-то из девиц, поведением которой я довольна, все же желает выйти замуж, я устраиваю в ее честь свадебный обед и даю за ней приданое – одежду и постельное белье. Те же, кто останется со мной до моей смерти, будут упомянуты в завещании и получат небольшое наследство. Я оставляю за собой право оплачивать все дорожные расходы из собственного кармана, поскольку, с одной стороны, не слишком одобряю бесцельные поездки, а с другой – не желаю, чтобы длительное отсутствие ослабило связывающие нас семейные узы.
Если мое предложение придется по душе вам и вашей дочери – большей частью вам, поскольку я уверена, что ваша дочь воспитана должным образом и не осмелится перечить вашей воле, – дайте мне знать, дорогая кузина Маргарет Доусон, и я вышлю за вашей дочерью человека, который встретит ее в Кевистоке – ближайшем к вашему дому населенном пункте».
Моя мать взяла письмо и, уронив на колени, минуту сидела в молчании.
– Не знаю, что я буду без тебя делать, Маргарет.
Будучи юной и неопытной, я было обрадовалась возможности увидеть новые места и познать новую жизнь, но теперь, когда в глазах матери отразилась печаль, а малыши заплакали, не желая разлуки со мной, сказала:
– Мама, я никуда не поеду.
– Нет, тебе все-таки лучше поехать, – покачала головой мать. – Леди Ладлоу обладает властью и положением в обществе и сможет помочь твоим братьям, а посему негоже пренебрегать столь любезным предложением.
Хорошенько все обсудив, мы решили ответить согласием и были вознаграждены – ну или думали так тогда, ибо впоследствии, узнав леди Ладлоу получше, я поняла, что она все равно исполнила бы свой долг по отношению к нам, беспомощным родственникам, даже если бы мы не воспользовались ее добротой, устроив одного из моих братьев в привилегированную частную школу.
Вот так я и познакомилась с леди Ладлоу.
Я хорошо помню тот день, когда впервые въехала в ворота Хэнбери-Корта. Ее светлость послала за мной экипаж в ближайший город, где останавливалась почтовая карета. Конюх на постоялом дворе сказал, что обо мне справлялся старый грум из Хэнбери-Корта, если, конечно, мое имя мисс Доусон. Тогда в моей душе впервые шевельнулся страх, ибо, потеряв из виду своего провожатого, посланного матерью, я начала понимать, каково это – оказаться среди чужаков. Меня усадили в высокую двуколку с поднятым верхом, которую в те дни называли фаэтоном, и она медленно покатила по самой живописной сельской местности, какая когда-либо открывалась моему взору. Нам предстояло подняться по довольно крутому склону высокого холма, и кучер, спрыгнув со своего сиденья, пошел впереди, взяв лошадь под уздцы. Я бы тоже с удовольствием прошлась пешком, но не знала, какое расстояние смогу преодолеть, да к тому же не решалась попросить, чтобы мне помогли спуститься на землю. Наконец мы поднялись на самую вершину и оказались на обширном, продуваемом со всех сторон и ничем не огороженном участке земли, именовавшемся, как я впоследствии узнала, охотничьими угодьями. Кучер остановился, перевел дух, потрепал лошадь по холке и вновь забрался на сиденье рядом со мной.
– Хэнбери-Корт уже близко? – спросила я.
– Близко!.. Да господь с вами, мисс! До него еще целых десять миль.
Прервав таким образом молчание, мы завели оживленную беседу. Возницу звали Рендал, и, кажется, он попросту боялся заговорить со мной, как и я с ним, но быстро преодолел робость. Я позволила ему выбирать темы для разговора, хотя зачастую не могла понять его интереса к тому или иному предмету. Например, он более четверти часа рассказывал о весьма примечательной погоне, которую устроила ему более тридцати лет назад одна хитрая лиса, причем говорил о норах и тропах так, словно я знала их так же хорошо, как и он сам, хотя на протяжении всего повествования никак не могла взять в толк, о чем идет речь.
После того как охотничьи угодья остались позади, дорога ухудшилась. В наши дни трудно себе вообразить, что представляли собой проселочные дороги пятьдесят лет назад. Нам пришлось долго трястись по бездорожью, изрытому глубокими, заполненными жидкой грязью колеями, и порой двуколку подбрасывало вверх с такой силой, что я вовсе не могла смотреть по сторонам, сосредоточившись лишь на том, чтобы удержаться на сиденье. Идти пешком тоже не представлялось возможным, поскольку дорога была покрыта слоем грязи, а мне совсем не хотелось предстать перед леди Ладлоу перепачканной с ног до головы. Однако едва лишь дорога закончилась и перед нами раскинулась поросшая травой равнина, я все же упросила Рендала помочь мне выбраться из двуколки. Сжалившись над своей взмыленной лошадью, утомленной борьбой с вязкой грязью, кучер любезно меня поблагодарил, а потом ловко спрыгнул на землю и помог спуститься мне.
Так постепенно мы добрались до низины, окаймленной с обеих сторон рядами высоких вязов и выглядевшей так, словно когда-то давным-давно на этом месте пролегала широкая аллея. Здесь было сумрачно, и лишь вдали виднелась полоска обагренного закатом неба. Неожиданно мы очутились перед лестницей – довольно длинный ряд ступеней уходил вниз и терялся в тени.
– Если вы спуститесь здесь, мисс, я объеду с другой стороны и встречу вас внизу, где вам лучше вновь сесть в коляску. Миледи не понравится, если вы подойдете к дому пешком.
– Мы что, уже приехали? – почему-то испугалась я и в замешательстве остановилась.
– Да, дом там, внизу, – ответил возница, указав кнутом на слегка покосившиеся печные трубы, видневшиеся из-за вершин деревьев. Утопавшие в густой тени на фоне закатного неба, они обрамляли широкую квадратную лужайку, расстилавшуюся у подножия крутого склона в сотне ярдов от того места, где стояли мы.
Я не спеша спустилась по ступеням и с помощью ожидавшего меня Рендала села в коляску. Свернув на уходившую влево широкую тропу, мы степенно въехали в массивные ворота и оказались во дворе перед домом. Дорога, что привела нас сюда, осталась за ним.
Хэнбери-Корт представлял собой весьма внушительных размеров здание из красного кирпича – во всяком случае, часть его действительно была красного цвета – с каменной облицовкой углов, дверей и окон, совсем как в Хэмптон-Корте. Сторожка возле ворот и окаймлявший дом высокий забор были тоже из красного кирпича. Узорчатые каменные фронтоны, арочные двери и каменные средники свидетельствовали о том (во всяком случае, об этом постоянно напоминала нам леди Ладлоу), что некогда здесь был монастырь. Сохранился даже кабинет настоятеля, который мы именовали комнатой миссис Медликот, и просторный десятинный амбар размером с церковь, и каскад богатых рыбой прудов, в старину помогавших монахам соблюдать пост. Но все это я разглядела позже. В тот первый вечер я не обратила внимания и на то, что большая часть фасада была обвита девичьим виноградом, по преданию впервые завезенным в Англию одним из предков ее светлости. Я с грустью ранее распрощалась со своим провожатым из дому и теперь так же неохотно рассталась со своим новым другом Рендалом, которого знала всего три часа, но ничего не поделаешь. Очень важный пожилой джентльмен услужливо придержал для меня дверь, я вошла в дом и свернула направо, в огромный зал, залитый волшебным красноватым светом, который отбрасывали последние лучи заходившего солнца. Следуя за важным пожилым джентльменом, указывавшим мне путь, я поднялась на возвышение, которое, как узнала впоследствии, называлось помостом и на котором в былые времена располагались обеденные столы для почетных гостей, а затем свернула налево, в анфиладу комнат, окна каждой из которых выходили на величественный сад, утопавший в цветах, что было видно даже в сумерки. Миновав последнюю, мой провожатый остановился перед ведущими вверх четырьмя ступенями, отдернул тяжелую шелковую занавесь, и я предстала перед леди Ладлоу.
Невысокая и миниатюрная, она держалась очень чопорно. Ее голову венчал огромный – размером чуть ли не в половину ее роста – кружевной чепец. Головные уборы вроде капора, завязывающиеся лентами под подбородком, которые мы называли меж собой копешками, вошли в моду позднее, и миледи относилась к ним с огромным презрением, заявляя, что с таким же успехом дамы могли бы появляться на людях в ночных колпаках. Спереди чепец миледи украшал большой бант из широкой атласной ленты. Такая же лента обрамляла ее голову, чтобы удерживать чепец на месте. Ее плечи и грудь прикрывала шаль из тончайшего индийского муслина, из такой же материи был и передник. Под шалью виднелось модное черное шелковое платье с короткими рукавами и оборками, шлейф которого был продет в специальное отверстие внутри кармана для регулировки длины, а из-под подола платья выглядывала простеганная нижняя юбка из атласа оттенка лаванды. Белоснежные волосы миледи полностью скрывал чепец, восковая кожа казалась не по годам гладкой и нежной, большие темно-голубые глаза наверняка были предметом ее гордости и делали из нее настоящую красавицу, поскольку больше в ее внешности не было ничего примечательного.
Возле ее кресла стояла увесистая трость с золотым набалдашником, использовавшаяся не по прямому назначению, а скорее в качестве свидетельства высокого положения ее обладательницы, ведь походка миледи, когда она того желала, могла быть такой же легкой и проворной, как у пятнадцатилетней девушки, и, прогуливаясь по аллеям сада рано поутру, она передвигалась так же быстро, как и любая из ее воспитанниц.
При виде меня она тут же поднялась со своего места, и я присела в реверансе, ибо матушка всегда говорила, что это свидетельствует о хорошем воспитании, и машинально шагнула навстречу миледи. Руки она мне не подала, а вместо этого привстала на цыпочки и расцеловала в обе щеки.
– Вы продрогли, дитя мое, и непременно должны выпить со мной чаю.
Она позвонила в небольшой колокольчик, стоявший подле нее на столе. В комнату тотчас же вошла горничная и, словно к моему прибытию готовились, принесла с собой фарфоровый сервиз с чаем и тарелку тонко нарезанных ломтиков хлеба с маслом, которые я могла бы съесть все разом – так сильно проголодалась за время долгого путешествия. Служанка забрала мою накидку, и я опустилась на стул, чрезвычайно смущенная царившей в комнате тишиной, приглушенными шагами служанки по мягкому ковру, спокойным голосом и четким выговором хозяйки дома. Чайная ложка выскользнула из моих пальцев и упала на блюдце с таким неуместным и оглушительным звоном, что я густо покраснела. На мне были толстые добротные перчатки из оленьей кожи, но меня охватила такая робость, что я не смела снять их без позволения. Наши с миледи взгляды встретились. Ее темно-голубые глаза смотрели на меня проницательно и вместе с тем ласково.
– У вас сильно замерзли руки, дорогая. Снимите-ка перчатки и позвольте мне согреть вас. По вечерам здесь бывает очень холодно.
Она взяла мои большие покрасневшие ладони в свои – мягкие, теплые, белые, унизанные кольцами – и, взглянув в лицо с легкой тоской, сказала:
– Бедное дитя! Самая старшая из девятерых. Моя дочь могла бы быть вашей ровесницей. Бог мой! Девять детей!
Она ненадолго замолчала, сокрушенно покачав головой, а затем опять позвонила в колокольчик и приказала горничной Адамс проводить меня в мою комнату.
Очень маленькая и тесная, с побеленными каменными стенами, она наверняка была прежде монашеской кельей и вмещала в себя лишь кровать с постельным бельем из белого канифаса, по обе стороны которой лежали небольшие красные половички, и два стула. В смежной – совсем крошечной – комнатушке стоял небольшой туалетный столик для умывания. На стене прямо напротив кровати были начертаны цитаты из Священного Писания, под которыми висела обычная для того времени гравюра с изображением короля Георга, королевы Шарлотты и их многочисленных детей, включая крошечную принцессу Амелию в детской коляске. По обе стороны от гравюры расположились два портрета: короля Людовика XVI слева и королевы Марии-Антуанетты справа. На каминной полке лежала коробочка с трутом и молитвенник. Вот и все убранство комнаты. Право, в те времена никто и мечтать не смел о письменном столе, чернильнице, большом удобном кресле и прочих предметах роскоши. Нас учили, что спальня предназначена для того, чтобы привести себя в порядок, помолиться и выспаться.
Вскоре за мной прислали юную леди с приглашением на ужин, и я последовала за ней по широкой пологой лестнице в просторный зал, через который мне уже довелось пройти по пути в покои леди Ладлоу. Там уже ждали еще четыре юные леди. Все они стояли в молчании, а едва я переступила порог зала, одновременно присели в реверансе. Одеты все были одинаково: в чепцах из муслина, которые удерживались с помощью голубых лент, и простых косынках, с батистовыми передниками поверх добротных платьев скучного серо-коричневого цвета. Девушки держались на некотором расстоянии от стола, на котором стояли тарелки с холодными цыплятами, салатом и фруктовым пирогом. На помосте в дальнем конце зала стоял небольшой круглый стол с серебряным кувшином молока и небольшой булочкой. К столу было придвинуто резное кресло, спинку которого венчало изображение короны – знака принадлежности к графскому роду. Наверное, девушки были бы не прочь со мной заговорить, но робели не меньше меня, а может, молчали по какой-то другой причине. И действительно, спустя минуту из боковой двери у помоста вышла ее светлость. Воспитанницы низко присели в реверансе, и я последовала их примеру. Миледи остановилась, с минуту смотрела на нас, потом произнесла:
– Юные леди, у нас новенькая – Маргарет Доусон. Прошу любить и жаловать.
Девушки держались со мной любезно и вежливо, как и подобает при общении с новой знакомой, но по-прежнему почти не разговаривали. По окончании ужина одна из воспитанниц прочитала молитву, миледи позвонила в колокольчик, и слуги быстро убрали со стола. Потом в зал внесли небольшой складной аналой и установили на помосте. Девушки собрались вокруг, и миледи попросила одну из них выступить вперед и прочитать некоторые псалмы и наставления. Помню, я подумала тогда, как мне было бы страшно оказаться на ее месте. Но то были не молитвы, ибо ее светлость считала еретичеством чтение любых молитв, кроме тех, что содержались в молитвеннике, и скорее сама прочитала бы проповедь в приходской церкви, чем позволила кому-то без церковного сана читать молитвы в частном доме. Но даже если бы таковой и оказался вдруг среди нас, она вряд ли одобрила бы чтение молитв в неосвященном месте.
Когда-то миледи служила фрейлиной при королеве Шарлотте, принадлежала к старинному роду Хэнбери, процветавшему во времена правления Плантагенетов, и являлась наследницей всех принадлежавших ее семье земель и огромных поместий, некогда простиравшихся на целых четыре графства. Хэнбери-Корт достался ей по праву. Выйдя замуж за лорда Ладлоу, она многие годы жила в его резиденциях вдалеке от родового гнезда своих предков. Всех своих детей, кроме одного, она потеряла, и умерли они в поместьях лорда Ладлоу. Думаю, именно поэтому ее светлость питала такую неприязнь к тем местам и мечтала поскорее вернуться в Хэнбери-Корт, где была так счастлива в годы юности. Полагаю, детство стало счастливейшей порой ее жизни, ибо ее рассуждения в те дни, когда я с ней познакомилась, могли показаться довольно странными, но ни у кого не вызывали недоумения пятьдесят лет назад. К примеру, когда я жила в Хэнбери-Корте, все чаще раздавались призывы к получению образования. Мистер Рейкс открыл свои первые воскресные школы, а некоторые священники ратовали за обучение письму, арифметике и чтению. Миледи же и слышать об этом не желала, ибо считала подобные идеи революционными и призывавшими к установлению равенства. Когда какая-нибудь молодая особа приходила наниматься на работу, миледи приглашала ее к себе, разглядывала ее одежду и внешность и расспрашивала о семье. Ее светлость придавала большое значение именно этому последнему пункту, поскольку считала, что особа, не выказавшая никакого тепла в ответ на вопросы, касавшиеся ее матери или малолетних братьев и сестер (если таковые имелись), никогда не станет хорошей служанкой. После этого она выказывала желание взглянуть на ноги будущей служанки, дабы убедиться, что та обута надлежащим образом, просила прочесть «Отче наш» и Символ веры и осведомлялась, обучена ли та грамоте. Если девушка в целом удовлетворяла требованиям ее светлости, но при этом умела писать и читать, лицо миледи разочарованно вытягивалось, ибо она всегда руководствовалась непреложным правилом никогда не нанимать на службу тех, кто обучен грамоте. Впрочем, пару раз миледи все же нарушила это правило, хотя в обоих случаях подвергла девушек весьма необычному испытанию, попросив произнести наизусть десять заповедей. Одна дерзкая юная особа (мне было ее очень жаль, хотя впоследствии она и вышла замуж за богатого торговца тканями из Шрусбери) весьма сносно выдержала все испытания, несмотря на свое умение читать, но в итоге испортила все, бойко заявив в конце десятой заповеди:
– Если вашей светлости будет угодно, я могу вести счета.
– Поди прочь, нахалка! – воскликнула миледи. – Тебе место среди торговок, а не у меня в услужении.
Упав духом, девушка удалилась, однако уже спустя мгновение миледи послала меня убедиться, что ее накормили перед уходом, и вновь позвала к себе, но лишь затем, чтобы вручить Библию и предостеречь от следования распространенным во Франции веяниям, под влиянием которых французы взялись рубить головы своим королям и королевам.
Расстроенно шмыгая носом, бедняжка только и пробормотала в ответ на это:
– Ей-богу, миледи, я ведь и мухи не обижу, не то что короля. И коль уж на то пошло, терпеть не могу французов, да и лягушек тоже.
Однако ее светлость была непреклонна и взяла на службу девушку, не умевшую ни читать, ни писать, дабы хоть как-то компенсировать свое беспокойство из-за того, какое распространение получило образование среди низших слоев населения, и впоследствии, когда умер священник, возглавлявший приход в Хэнбери на момент моего приезда, и епископ назначил на его место преемника, именно вопрос образования стал предметом, относительно которого ее светлость и новый священник никак не могли прийти к согласию. При жизни нашего доброго глухого мистера Маунтфорда не расположенная слушать проповеди миледи взяла себе за правило вставать со своей широкой церковной скамьи, располагавшейся за специальным ограждением прямо напротив аналоя, и громко провозглашать (как раз в тот момент утренней службы, когда надлежало петь гимн): «Мистер Маунтфорд, я не стану беспокоить вас сегодня просьбой о проповеди». После этого мы все со вздохом удовлетворения опускались на колени, чтобы пропеть литанию, поскольку мистер Маунтфорд, хоть и был туговат на ухо, на протяжении всей службы не спускал глаз с миледи, готовый уловить ее малейшее движение. Однако новый священник мистер Грей оказался человеком совсем иного склада и рьяно взялся за исполнение своих обязанностей. Миледи, по мере своих возможностей заботившаяся о благополучии бедных прихожан, частенько превозносила заслуги мистера Грея, называя его благословением для прихода, и он никогда не получал отказа в Хэнбери-Корте, если нуждался в бульоне, вине или саго для какого-нибудь больного бедняка. Но он всерьез вознамерился заняться новым для себя увлечением – образованием, и я заметила, сколь сильно огорчилась миледи в одно из воскресений, заподозрив (правда, я не знаю почему), что мистер Грей намерен упомянуть в своей проповеди воскресную школу, которую собирался открыть. И вот ее светлость поднялась со своего места, хотя не делала ничего подобного на протяжении двух лет после смерти мистера Маунтфорда, и произнесла: