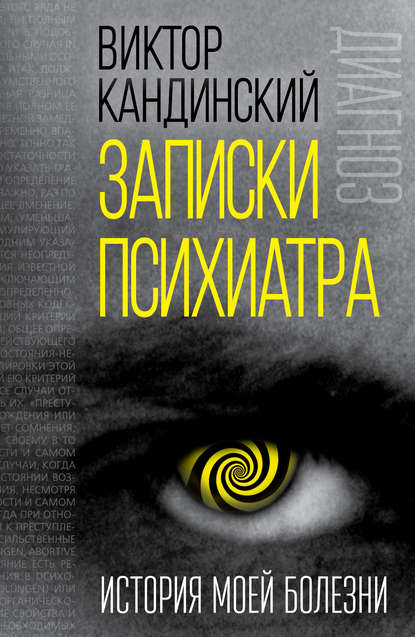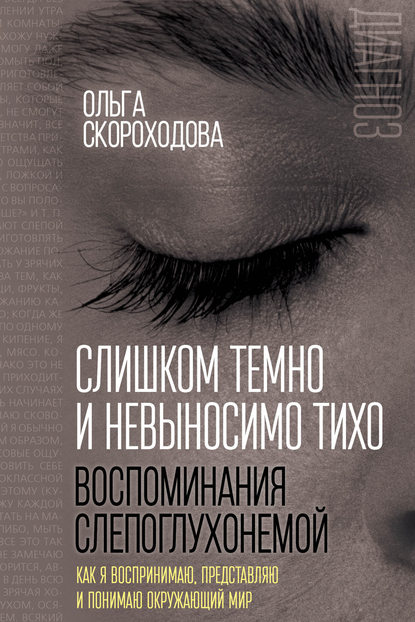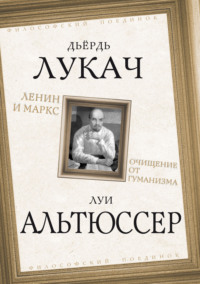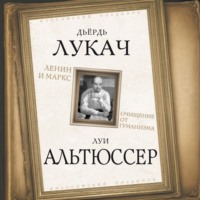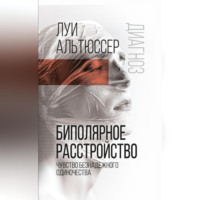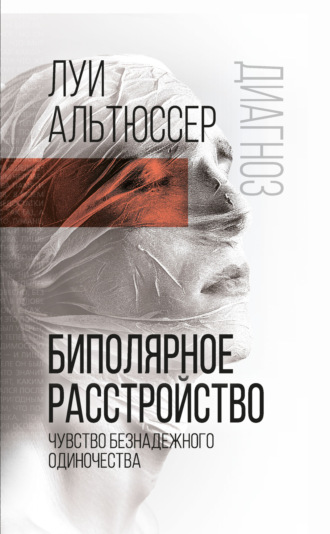
Полная версия
Биполярное расстройство. Чувство безнадежного одиночества

Луи Альтюссер
Биполярное расстройство. Чувство безнадежного одиночества
© Альтюссер Л., 2025
© Нигматулин М.В., перев., 2025
© Катайцева Э.С., перев., 2025
© ООО «Издательство Родина», 2025
Благодарности
Мы хотели бы выразить благодарность всем, кто помог нам в подготовке этого издания. В первую очередь – Франсуа Боддару, наследнику Луи Альтюссера, принявшему решение опубликовать эти тексты и неизменно оказывавшему нам доверие. А также:
Режи Дебре, Сандре Саломон, Полетт Тайеб, Мишель Луа, Доминику Лекуру, Андре Тозелю, Станисласу Бретону, Элен Труазье, Фернанде Наварро, Габриэлю Альбьяку, Жан-Пьеру Сайгасу… – за предоставленные документы и ценные свидетельства, позволившие подготовить это издание в наилучших условиях. Однако ответственность за публикацию лежит исключительно на нас.
Отдельная благодарность сотрудникам IMEC, особенно Сандрин Самсон, проделавшей огромную работу по систематизации архива Альтюссера.
Вероятно, многим покажется возмутительным, что я не замолчал после того, что совершил, – как и после освобождения от уголовной ответственности, которым, как говорят, «воспользовался».
Но если бы не это освобождение, мне пришлось бы предстать перед судом. А если бы пришлось – мне пришлось бы отвечать.
Эта книга – мой ответ, который в ином случае от меня потребовали бы. И всё, о чем я прошу, – чтобы мне дали возможность его дать. Чтобы позволили сейчас то, что тогда было бы обязанностью.

Луи Альтюссер
Конечно, я понимаю: мой ответ здесь – не в рамках судебной процедуры (которая не состоялась) и не в той форме, какую он принял бы в зале суда. Но разве отсутствие этой процедуры, ее правил и формы не делает то, что я попытаюсь сказать, еще более открытым для общественной оценки – и свободной интерпретации? Во всяком случае, я на это надеюсь. Мой удел – успокаивать одну тревогу, бросаясь в объятия других.
I
Так, как я это помню – ясно и в мельчайших деталях, выгравированное во мне всеми испытаниями и навсегда.
Между двумя ночами – той, из которой я вышел, не зная, какая она, и той, в которую мне предстояло войти, – я расскажу когда и как. Вот сцена убийства, какой я ее пережил.
Внезапно я стою в халате у изножья своей кровати в квартире в Высшей нормальной школе. Серый ноябрьский свет (это было воскресенье, 16-го, около девяти утра) льется слева из высокого окна, обрамленного старыми, выцветшими алыми портьерами в стиле ампир, истерзанными временем и выгоревшими на солнце.
Передо мной – Элен. Она лежит на спине, тоже в халате.
Ее таз – на краю кровати, ноги беспомощно опущены на ковер.
Я стою на коленях рядом, склонившись над ней, и массирую ей шею. Я часто молча массировал ей затылок, спину, поясницу – научился этому у Клерка, товарища по плену, профессионального футболиста, знатока своего дела.
Но на этот раз я массирую переднюю часть шеи. Я давлю большими пальцами в ямку у основания горла и, не ослабляя нажима, медленно веду их вверх – один вправо, другой влево, к плотной области под ушами. Массаж «V-образный». Я чувствую сильную усталость в предплечьях – массаж всегда дается мне тяжело.
Лицо Элен неподвижно и спокойно, глаза открыты, смотрят в потолок.
И вдруг меня охватывает ужас: ее глаза слишком долго не моргают, а главное – между зубами и губами лежит короткий кончик языка, непривычный и безмятежный.
Я видел мертвых, но никогда в жизни не видел лица задушенной женщины. И все же я знаю – это задушенная. Но как? Я вскакиваю и кричу:
– Я задушил Элен!
В панике я бросаюсь через всю квартиру, сбегаю по узкой лестнице с железными перилами во двор, к высоким воротам, и несусь к лазарету, где знаю, что найду доктора Этьена. Он живет на втором этаже.
Никого нет – воскресное утро, школа почти пуста, все еще спят. Ору, взлетая по лестнице:
– Я задушил Элен!
Я стучу в дверь врача. Он, тоже в халате, наконец открывает, ошеломленный. Я кричу без остановки, что задушил Элен, хватаю его за воротник:
– Срочно! Идите к ней, или я подожгу школу!
Этьен не верит:
– Это невозможно.
Мы спешно спускаемся, и вот мы оба стоим над Элен. Ее глаза все так же неподвижны, а между зубами и губами – тот самый кусочек языка.
Этьен проверяет пульс:
– Ничего не сделать. Уже поздно.
Я:
– Но нельзя ли попытаться реанимировать?
– Нет.
Тут Этьен просит несколько минут и оставляет меня одного. Позже я пойму: он, наверное, звонил – директору, в больницу, в полицию… Я жду, дрожа.
Длинные красные занавески, изодранные в лоскутья, свисают по бокам окна. Одна из полос – справа – почти касается края кровати.
Я вспоминаю нашего друга Жака Мартена, которого в августе 1964-го нашли мертвым в его крошечной комнате в XVI округе. Он лежал на кровати уже несколько дней, а на груди у него – длинный стебель алой розы. Молчаливое послание нам двоим, кто любил его двадцать лет, – в память о Белояннисе, привет из загробного мира.
Я беру один из узких клочьев красного занавеса и, не отрывая его, кладу на грудь Элен – по диагонали, от правого плеча до левой груди.
Этьен возвращается. Здесь все расплывается. Кажется, он делает мне укол. Мы проходим через мой кабинет, и я вижу, как кто-то (не знаю кто) забирает книги, взятые в школьной библиотеке.
Этьен говорит о больнице.
И я погружаюсь во тьму.
«Очнулся» я – не знаю когда – в Сент-Анн.
II
Пусть читатели простят меня. Эту маленькую книгу я пишу в первую очередь для друзей – и, если получится, для себя. Скоро станет понятно, почему.
Спустя долгое время после трагедии я узнал, что двое близких (а возможно, не только они) желали, чтобы мне не дали освобождения от суда (основанного на трех судебно-медицинских экспертизах, проведенных в Сент-Анн в неделю после смерти Элен), и чтобы я предстал перед судом присяжных.
Увы, это было благое пожелание.
В тяжелом состоянии (спутанность сознания, бред) я был неспособен выдержать публичный процесс. Следователь, посетивший меня, не смог добиться ни слова.
Более того – по распоряжению префекта полиции я был насильно госпитализирован и лишен дееспособности, а значит, свободы и гражданских прав. У меня не было выбора: я оказался в юридической машине, которой не мог избежать и которой мог только подчиниться.
У этой процедуры есть очевидные плюсы: она защищает обвиняемого, признанного неответственным за свои действия. Но в ней кроются и страшные минусы – менее известные.
После столь долгого испытания я понимаю своих друзей. Говоря об «испытании», я имею в виду не только госпитализацию, но и всё, что пережил с тех пор, – и, как я вижу, всё, что мне суждено пережить до конца дней, если я не выступлю лично и публично с собственным свидетельством.
Слишком многие – из лучших или худших побуждений – рисковали говорить за меня или молчать. Удел освобождения от суда – это надгробный камень молчания.
Постановление о прекращении дела (февраль 1981 года) основано на знаменитой статье 64 Уголовного кодекса в редакции 1838 года – статье, все еще действующей, несмотря на 32 попытки реформы.
Четыре года назад, при правительстве Моро, очередная комиссия взялась за этот сложный вопрос, затрагивающий всю систему административной, судебной и уголовной власти, сросшуюся с психиатрическим знанием, практикой и идеологией принудительной госпитализации.
Комиссия больше не собирается. Видимо, лучшего решения не нашлось.
С 1838 года Уголовный кодекс противопоставляет «невменяемость» (если преступник действовал в состоянии «безумия» или «под принуждением») и полную ответственность «нормального» человека.
Ответственность и невменяемость: две стороны правосудия
Состояние вменяемости запускает классическую судебную процедуру:
– Публичное разбирательство в суде присяжных,
– Прения между обвинением (действующим от имени общества), свидетелями, адвокатами защиты и гражданскими истцами,
– Право подсудимого изложить свою версию событий.
Весь этот публичный процесс завершается тайным совещанием присяжных, которые выносят вердикт:
– Оправдание
– Тюремный срок – где преступник, признанный таковым, «платит долг обществу» и тем самым «искупает» свое преступление.
Состояние юридической невменяемости, напротив, отменяет публичный судебный процесс. Убийца направляется напрямую в психиатрическую больницу. Он тоже «изолирован от общества», но на неопределенный срок и якобы получает «лечение», соответствующее его статусу «душевнобольного».
– Если оправдан – он выходит на свободу с (теоретически) чистой репутацией. Хотя общество может возмущаться вердиктом и дать ему это почувствовать.
– Если приговорен к тюрьме или госпитализации – он исчезает из социальной жизни:
– Тюрьма – на определенный срок (который могут сократить за хорошее поведение).
– Психбольница – на неопределенный срок, с дополнительным ударом:
– Признанный недееспособным, пациент лишается гражданских прав.
– Его опекун (часто юрист) получает право подписывать документы от его имени. Общество считает, что убийца (потенциальный рецидивист) должен быть изолирован навсегда. Поэтому:
– Возмущаются, когда осужденных выпускают досрочно.
– Требуют «пожизненного заключения» не только как замену смертной казни, но и как «естественную меру» за особо жестокие преступления.
А как же «безумец»? Его считают еще опаснее – потому что непредсказуем.
Проблема психиатрического заключения:
1. Сроки
– Обычный преступник знает срок (2 года, 5 лет, 20 лет…).
– «Безумец» интернирован без четких временных рамок.
– Даже врачи не могут точно предсказать, когда наступит улучшение.
2. Клеймо
– Оправданный или отбывший срок преступник теоретически возвращается к нормальной жизни.
– Но реальность жестче: общество помнит и осуждает.
– Однако закон защищает таких людей: они могут подать в суд за клевету, если их прошлое используют против них.
3. Положение «безумца»
– Для общества он «пропавший без вести» – не живой и не мертвый.
– Кто навещает интернированных? Почти никто.
– Он не может публично защищаться, не может доказать, что изменился.
– Он исчезает – как жертва войны, о которой все забыли. Я пишу об этом, потому что пережил это – и в каком-то смысле живу с этим до сих пор.
Даже после выхода из больницы (уже два года) для многих я остаюсь «пропавшим».
Не мертвый, но и не живой.
Еще не похороненный, но «без будущего» – как сказал Фуко о безумии.
Исчезнувший.
Исчезнувший: между жизнью и смертью
Но в отличие от мертвого, чья кончина ставит точку и чье тело предают земле, «исчезнувший» создает для общества тревожную возможность – вернуться.
(Как писал Фуко о себе: «под яркое солнце польской свободы» – когда почувствовал себя исцеленным.)
Этот странный статус – человека, который может внезапно появиться вновь, – порождает в обществе глухое беспокойство и чувство вины.
Потому что исчезновение не гарантирует окончательного конца для преступника или убийцы, помещенного в психиатрическую больницу.
Здесь кроется страх смерти – непреодолимый инстинкт.
Обществу хотелось бы, чтобы дело было закрыто раз и навсегда – через интернирование.
Но если «безумец» вдруг возвращается (даже с разрешения врачей), общество вынуждено искать компромисс между:
– неожиданным и неудобным фактом его возвращения,
– и первым шоком от убийства, который теперь всплывает вновь.
А вдруг он снова совершит преступление? Таких случаев полно!
Или, может, он действительно стал «нормальным»?
Но если да, то был ли он «ненормальным» в момент преступления?
В сознании общества, ослепленного стихийной (и намеренно культивируемой) идеологией преступления, смерти, «пожизненного долга» и «опасного, непредсказуемого безумца», суд, которого не было, вот-вот начнется заново – на публичной площади.
И, как прежде, у безумного убийцы нет права объясниться.
Человек, обвиненный в преступлении и не получивший освобождения от суда, проходит через тяжелое испытание – публичный процесс.

Режи Дебре
Но, по крайней мере, у него есть возможность:
– публично защищаться,
– слышать свидетельства,
– получать помощь адвокатов,
– самому объяснить свою жизнь, преступление и будущее.
Даже если его осудят, он может заявить о невиновности – и иногда это приводит к пересмотру дела и оправданию.
Общественные комитеты могут встать на его защиту.
Это принцип гласности суда, который еще в XVIII веке итальянский юрист Беккариа (а за ним и Кант) считал главной гарантией справедливости.
А что с «невменяемым»?
Для убийцы, освобожденного от суда, всё иначе.
Два обстоятельства лишают его права на публичное объяснение:
1. Интернирование и лишение дееспособности.
2. Врачебная тайна.
Что знает общество?
– Факт убийства.
– Результат вскрытия («смерть от удушения» – и ни слова больше).
– Постановление о прекращении дела (через несколько месяцев) на основании статьи 64 – без комментариев.
Но общество не узнает:
– Детали судебно-медицинских экспертиз.
– Диагноз (предварительный) и прогноз врачей.
– Лечение, которое получал пациент.
– Его отчаянные попытки понять причины трагедии.
И если он выйдет из больницы (если выйдет…) – никто не узнает:
– Как он себя чувствует.
– Почему его выпустили.
– Через какие муки «переходного периода» он проходит (часто в одиночку).
– Как медленно и болезненно он возвращается к жизни.
Родные и друзья, пережившие трагедию без объяснений, разрываются между:
– Ужасом перед преступлением (и его эксплуатацией в прессе).
– Любовью к убийце, которого они знали и, возможно, любили.
Они не могут совместить образ близкого человека с фигурой убийцы.
Они ищут объяснений, но их не дают – или предлагают жалкие гипотезы («слова, слова»!).
К кому им обратиться, кроме лечащих врачей?
Но врачи связаны профессиональной тайной и часто сами не уверены в диагнозе.
Странная «диалектика» возникает между:
– Тревогой пациента (которая в тяжелых случаях, как у меня, заражает врачей и медсестер).
– Тревогой близких.
Врач должен «держаться» – и перед своей тревогой, и перед страхом медперсонала, и перед отчаянием родных.
Но это «держаться» невозможно скрыть.
Ничто так не пугает пациента и близких, как эта очевидная борьба врача с тем, что кажется ему возможно необратимым.
Да, на горизонте мысли врача и ожиданий близких маячит призрак пожизненного интернирования.
Даже если больной возвращается, даже если близкие поддерживают его (как в моем случае), их не покидает страх:
– Сможет ли он когда-нибудь вырваться из этого?
– А вдруг в больнице он «сорвется» снова?
– Не до убийства (хотя и это возможно),
– но до нового приступа.
– Если его снова госпитализируют – выйдет ли он вообще?
– А если выживет – какой ценой?
– Не останется ли он навсегда сломленным?
– (Таких сколько угодно!)
– Или бросится в новую манию – опасную, неконтролируемую?
Этот страх не отпускает.
И даже самому вернувшемуся кажется, что он никогда не будет свободен.
Не от преступления – от его тени.
Тяжелейшая дилемма: как согласовать несовместимое?
Но есть и более глубокая проблема. Как примирить те объяснения, которые каждый из близких выстроил в своем сознании (ведь у каждого – своя версия, своё «послевкусие» трагедии, попытка осмыслить непостижимое), с теми объяснениями, которые предлагаю им я?
Они плохо знали Элен. Но на основе отрывочных впечатлений, поверхностных наблюдений и сиюминутных настроений они – волей-неволей – создали о ней собственное представление, зачастую нелестное («подруга друга» – это всегда сложно).
Как согласовать их видение трагедии с теми смутными догадками, которые я, в темноте своего «безумия», пытаюсь им предложить? Мои друзья оказались в парадоксальной ситуации.
– Они помнят детали, которые я, защищаясь, стер из памяти (кроме самого момента убийства).
– Они боятся делиться этим со мной – чтобы не разбудить во мне ужас того дня,
– чтобы не оживить злые намеки прессы (особенно когда речь идет об «известном человеке»),
– чтобы не вскрыть молчание тех, кто был рядом, но предпочел отстраниться.
Они знают: каждый из них искал ответы по-своему – или старался забыть (что невозможно).
И если они заговорят, наша братская связь – не только со мной, но и между собой – может разрушиться.
Потому что речь идет не только о моей судьбе, но и – без сомнения – о судьбе их собственной дружбы. Раз уж другие говорили за меня, а закон лишил меня права на публичное объяснение, я решил взять слово сам.
Прежде всего – для друзей. А если получится, то и для себя.
Чтобы приподнять тяжелую плиту, что легла на мою жизнь.
Да, я хочу освободиться.
Один. Без советов и одобрений.
Освободиться от последствий того состояния, в которое меня погрузили:
– Крайняя тяжесть моего положения (врачи дважды считали, что я умираю),
– Убийство,
– И, главное, двусмысленные последствия освобождения от суда, против которого я не мог возразить – ни фактически, ни юридически.
Я был обречен выживать – под надгробной плитой молчания и публичной смерти. Конечно, я прошу учесть: мои слова – не просто субъективные впечатления.
Я тщательно готовился:
– Консультировался со всеми врачами, лечившими меня – до, во время и после больницы.
– Беседовал с друзьями, которые наблюдали за мной все эти годы (двое из них вели дневники с июля 1980 по июль 1982).
– Изучал мнения фармакологов и биологов по ключевым вопросам.
– Проанализировал прессу (не только французскую, но и зарубежную) – и убедился, что, за редкими политически мотивированными исключениями, журналисты были корректны.
Я сделал то, что никто не сделал до меня: собрал и сопоставил все данные, как если бы речь шла о постороннем человеке.
И теперь – в полном сознании и с полной ответственностью – решил говорить. Мне говорили:
– «Ты всколыхнешь историю снова. Молчи – не создавай волн».
– «Единственный выход – молчание и смирение. Ты не изменишь общество своими объяснениями».
Я не верю в эту осторожность.
Я не думаю, что мои слова разожгут полемику.
Напротив: я убежден, что могу не только объясниться, но и побудить других задуматься – на примере конкретного опыта, критическая исповедь о котором не имеет аналогов (разве что – потрясающее признание Пьера Ривьера, опубликованное Мишелем Фуко).
Опыта, который выходит за мои личные рамки, потому что затрагивает:
– Юридические,
– Уголовные,
– Медицинские,
– Психоаналитические,
– Социальные вопросы.
Опыта, который, возможно, прольет свет на споры о:
– Уголовном праве,
– Психиатрии,
– Принудительной госпитализации,
– И их влиянии даже на сознание врачей, которые тоже заложники системы. Я – не Руссо. Но…
Я не смею, как он, заявить: «Я предпринимаю дело, не имеющее примера».
Но могу честно повторить его слова:
«Я открыто скажу: вот что я сделал, что я думал, кем я был».
И добавлю:
«Что я понял (или думаю, что понял). Что уже не вполне во власти моей воли – но чем я стал». Что это за текст?
Не дневник. Не мемуары. Не автобиография.
Я отбросил всё лишнее, оставив только следы эмоций, которые сформировали мою жизнь – и определили мою суть.
Иногда я следую хронологии, иногда нарушаю её – не для путаницы, а чтобы выявить те главные переживания, вокруг которых, как мне кажется, я сложился как личность.
Этот метод возник сам собой – судите о нём по результату.
Как и о роли в моей жизни тех жестоких структур, которые я когда-то назвал «Идеологическими аппаратами государства» (ИАГ).
К моему собственному удивлению, без них я не смог бы понять, что со мной произошло.
III
Я родился 16 октября 1918 года, в четыре тридцать утра, в лесном доме «Булонского леса» (коммуна Бирмандреис, в 15 км от Алжира).
Мне рассказывали, что мой дед, Пьер Берже, сбежал вниз, чтобы позвать русскую женщину-врача, знакомую моей бабушки.
Эта грубоватая, шумная и добрая женщина примчалась, приняла роды и, увидев мою крупную голову, заявила:
«Этот – не такой, как все!»
Эти слова, видоизменяясь, долго преследовали меня.
Я помню, как моя двоюродная сестра и родная сестра повторяли про меня в подростковые годы:
«Луи – типапарт».
(Для них эти три слова слились в одно.)
Когда я родился, моего отца не было рядом уже девять месяцев – сначала он был на фронте, потом задержался во Франции до демобилизации.
Полгода у моей колыбели не было отца.
До марта 1919 года я жил только с матерью – в доме деда и бабушки по материнской линии.
Крестьянские корни и алжирская эпопея
Оба моих деда были детьми бедных крестьян из окрестностей Фура в Морване (департамент Ньевр). В юности они по воскресеньям пели в церковном хоре:
– Мой дед, Пьер Берже, – на задней скамье у входа, рядом с мальчишками из деревни,
– Бабушка, Мадлен Некту, – ближе к алтарю, с девочками.
Мадлен ходила в школу при монастыре – именно монахини сыграли свадьбу. Они решили, что Пьер Берже – парень хоть куда: крепкий, невысокий, немного замкнутый, но с красивыми усами и приятным голосом.
Брак заключили без особых церемоний, как тогда было принято. Но ни у родителей Пьера, ни у родни Мадлен не было достаточно земли, чтобы прокормить молодую семью. Пришлось искать счастья вдали от дома.
Мечты о колониях
Это была эпоха Жюля Ферри и французской колониальной экспансии. Мой дед, выросший среди лесов, мечтал стать лесником на Мадагаскаре!
Но Мадлен возражала:
– «Лесником – согласна. Но не дальше Алжира! Иначе замуж не пойду».
Дед уступил – в первый, но не в последний раз. Бабушка была женщиной с характером: решительной, но всегда уравновешенной в словах и поступках. Она стала опорой семьи.
Так Берже оказались в Алжире, где дед сделал карьеру лесничего в самых глухих и диких горных районах – тех самых, что в 1960-х стали опорными пунктами алжирского Сопротивления.
Жизнь в глуши
– Дед подорвал здоровье, годами разъезжая верхом днем и ночью.
– Его уважали арабы и берберы.
– Он боролся с козами, которые залезали на деревья и объедали молодые побеги,
– Тушил лесные пожары,
– Прокладывал дороги в труднодоступной местности.
Один случай особенно запомнился:
Однажды зимой, когда снег полностью покрыл массив Шреа, дед пешком отправился в горы на поиски группы заблудившихся шведов. Через три дня он привел их, изможденных, к лесной сторожке. За этот подвиг его наградили крестом – он до сих пор хранится у меня.
Одиночество бабушки
Пока дед разъезжал, бабушка оставалась одна в глухом лесном доме – дни и ночи напролет.
Это важный момент.
Резко сменив уютную сельскую жизнь в Морване на алжирскую глушь, мои деды прожили в изоляции почти 40 лет – даже после рождения двух дочерей.
Их единственным обществом были:
– Местные арабы и берберы (все время разные),
– Да редкие проверки начальства (раз в год).
Особенно запомнился господин де Пейримофф, для которого дед ухаживал за породистым конем – тот использовался исключительно для его визитов.
Испытания
Бабушка рассказывала мне два страшных эпизода, оставивших глубокий след в моем детском сознании:
1. Восстание в Маргарите
– Она осталась одна в лесном доме с двумя дочками (моей будущей матерью и тетей).
– Вокруг бродили возбужденные толпы арабов – хоть местные и любили семью Берже, эти пришли из дальних районов.
– Всю ночь бабушка не смыкала глаз, держа на коленях заряженное ружье:
– «Два патрона – для дочек. Один – для себя».
– К утру опасность миновала.
– Моя мать (тогда 6 лет) и тетя (4 года) играли у быстрого ручья с бетонными берегами.
– Вода уходила в подземный сифон и исчезала.
– Мать упала в поток и уже исчезала в трубе, когда бабушка в последний момент вытащила ее за волосы.
Эти истории внушали мне ужас – ведь речь шла о смерти моей матери. Я долго дрожал, слушая их, – возможно, подсознательно желая этого исхода (амбивалентность детских чувств).