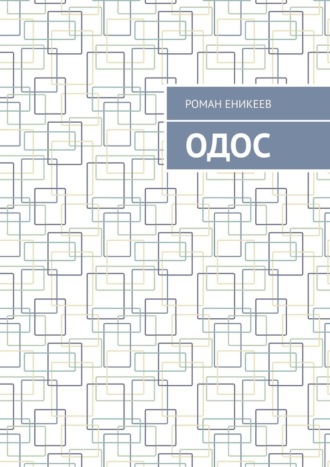
Полная версия
Одос

Одос
Роман Владиславович Еникеев
© Роман Владиславович Еникеев, 2025
ISBN 978-5-0068-3414-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Одос
Всё начинается с историй. Со сказок про колобка, семеро козлят и красную шапочку. Истории про трансформеров и мстителей. Далее слухи про бывших одноклассников, соседей и коллег. Красочные презентации ради будущих инвестиций, истории становления самым успешным из знакомых. Мы живем историями и в историях; мир открывается нам через них – через мифы, предания и биографии, мир изменяется нами через них – через идеологию и политику. Наша цивилизация держится на этом конгломерате историй, которые переплетаются в связанный нарратив, являющимся именно тем миром, который человек представляет себе, когда речь идет о внешнем мире – не абстрактные горы, поля и деревья с презентации телевизора в магазине бытовой техники, а конкретные истории про конкретных людей: как например кто-то отдыхал полгода на Кубе и т. д. История человечества определила облик нашего мира сейчас, и она же предопределяет наше будущее – что-то больше, что-то меньше, но без предопределения, что какую-то часть мира, какого-то человека или бабочку, случайно оказавшуюся на дороге, можно выкинуть из общей картины, ни капли ее не изменив.
Самые абстрактные и важные истории касаются роли человека в мире и взаимных отношений (мира на человека и человека на мир). Философские системы конструируют картины мира и человека в нем, пытаясь ответить на главные вопросы: соотношения знания и реальности, природа нашего научного знания, природа времени, отражение мира в языке, природа сознания, свободы воли, – все эти вопросы имеют общую схему, которая заключается в крайнем абстрагировании субъекта (человека) и объекта (мира) и определении аспектов их соотношений: что первично, «субстанциальнее» и т. д.
Цель данной работы – рассмотреть общий схематизм, который можно подвести под некоторые абстрактные и древние вопросы, вроде соотношения математики и реальности, отличие сознательных субъектов от не обладающих сознанием, и природы понятия истины. Подвести под них единую концептуальную основу, которая конституирует саму возможность постановки вопроса. Начнем с того, что такое Одос.
1. Инструменты
Человек существует в потоке чувственных данных, которые поступают от внешнего мира к его органам чувств. Эти чувственные данные варьируются в широком диапазоне от наслаждения до страдания, от теплого до красного и т. п. Человек находится в этом потоке чувственных данных, которые поступают от внешнего мира и от его собственного тела. Для того, чтобы полноценно представить этот поток, необходимо принудительно вернуть сознание на уровень первоначального восприятия, такого, которое не опосредовано языком, прошлым опытом или любой другой системой, позволяющей упрощать и систематизировать опыт. Представьте, например, видеоряд, который идет по экрану, но без работы всего того осмысляющего и интерпретирующего аппарата, который вшит в каждого из нас – что это не какая-то история с контекстом, действующими лицами, сюжетом. Сосредоточимся на цвете в правом верхнем углу – «Zima Blue», например. И вот этот голубой квадрат и будет чистым восприятием – назовем это «синтезом». Синтез только и делает, что изливается на нас, ну или мы погружаемся в него. Синтез – это тотальность. Человек пытается управлять синтезом, потоком этих данных и встраивать их в свой осмысленный нарратив. Первична именно тотальность синтеза: цвета, звука, судьбоносного решения – тотальность, которая не осмысливается, не интерпретируется, не вшивается как снятое впечатление в уже существующую картину мира. Знакомо же ощущение растворения в звуке слова, когда его раз за разом повторяешь? Слово теряет смысл, референт, денотат, оно предстает просто звуком. Так происходит частичный возврат к тотальности от оболочек-референтов, где знаки лишь отсылают к другим знакам. Для человека нужно усилие, чтобы вернуться назад к вещам, но именно это является ключевым феноменом, необходимым для понятия аутентичности. Синтез, освобожденный от анализирующего аппарата, появляется, когда мы всматриваемся в прекрасную картину, в которой каждая деталь правдива, и возникает чувство сопричастности происходящему на холсте, проживания этого схваченного момента времени как настоящего. Или, наоборот, кадры военных ужасов, которые выбивают из-под ног все основополагающие понятия человечности, оставляя нас наедине со свершившимся настоящим, без какой-либо правды, на которой эту новую жизнь можно построить. Это процессы созерцательного очищения, в которых мы, сознательным напряжением или, наоборот, невозможностью сопротивления, возвращаемся на первоначальный уровень перцепции – к непосредственным чувственным данным. Эти данные, освобожденные от коннотаций, отсылок, значений, ярлыков, стереотипов – полны, неразрывны, «избыточны» (в кавычках, потому что избыток предполагает лимит, но при чистом восприятии они не встречают границ, они просто есть, изливаются на нас). Синтез, воспринимаемый так – как непосредственная данность, является первичным и главным переживанием, с которого человек начинает путешествие в мире и к которому направлены все понятия, рассмотренные здесь.
Непосредственные восприятия, насколько они вообще могут быть непосредственными и независимыми от каких-либо интерпретирующих инструментов, представляются как внутренний поток из восприятий, которые невозможно отделить друг от друга (без анализа и интерпретации и, соответственно, утраты непосредственности). Как уже было сказано, отсюда мы начинаем наш путь, это отправная точка, в которой человек просто воспринимает окружающий мир без какого-либо анализа или классификации (в современном обществе такое состояние напротив является результатом соответствующих практик, в результате которых человек возвращается в «исходное состояние» чистого восприятия, типа медитаций). Но как мы понимаем из повседневного опыта, особенность человека, его деятельности в мире, заключается не просто в восприятии окружающего мира, а в преодолении и контроле окружающих обстоятельств. Для того, чтобы обрести контроль над потоком чувственных данных, необходимо его останавливать, изменять и трансформировать.
Первые инструменты, которые осваивает человек, – это его тело, конечности, органы чувств. Если ребенок наелся, он отталкивает бутылочку, он прерывает этот поток. Но особенность человеческой цивилизации в обладании «третьим» миром – независимой картины мира, которая принадлежит человеку, которая им создана. Главный инструмент для расширения этого «третьего» мира – именование. Когда чему-то дается имя, оно «прописывается» в нашей картине мира. Чтобы дать имя чему-либо, будь то человек или явление, необходимо его постоянство – оно должно занять какое-то выделенное ему пространство, подобно тому, как в программировании объявляется переменная – «int J», теперь выражение «J» зарезервировано за этой переменной. Необходимое условие для имени – это выделение на фоне других восприятий, подобно камню, который стоит на пути горного ручья, но не разрушается им, так и символ «J» однозначно определен в компиляторе и будет таковым, пока компилятор (среда его создавшая) будет исправен.
Для того, чтобы дать имена объектам, вычленить их из потока, нужны ограничения, лакуны в этом потоке. Человек должен на чем-то сконцентрироваться и заблокировать поток воздействий на целевой объект от фона и других объектов. Даже если объект появился лишь единожды, как комета Галлея в чьей-то жизни, он должен сохраниться именно так, как был воспринят – в памяти очевидца она сохраниться ослепительным пятном на фоне сумрачного февральского неба. Переменная «J» может участвовать в алгоритмах, потому что разработчик и компилятор отличают ее от других переменных. Мы пока говорим только о «нумерическом» аспекте, т.е. о том, что необходимое условие существования объекта – обладание границей, которая позволяет ему сохраняться от воздействий среды. Мысль о том, что объект становится объектом после определения того, что именно объект, а что не объект – банальна и на первый взгляд походит на трюизм. Но именно из-за расположения этого механизма на «предсмысловом» уровне возникают анфилады тупиков, которые порождены самоуверенностью языка в способности предоставить доступ к аутентичному бытию.
Начиная с картины тотального синтеза, в который помещен «субъект», мы переходим к следующему этапу – появлению статичных (в какой-то мере) «объектов», которые противостоят постоянной изменчивости синтеза вокруг. Объекты – это «островки» в бурном потоке синтеза, обладающие двумя определяющими качествами: устойчивость и контролируемость. Устойчивость необходима для самого «существования» объекта, это определяющий параметр для того, чтобы объект не растворялся в окружающем потоке. Устойчивость – это обоюдное свойство объекта и окружающей его среды, т.к. один и тот же объект может быть стабильным в одной среде и исчезать в другой (т.е. взаимодействовать со средой так интенсивно, что это взаимодействие будет подрывать его конституцию и существование). Золотая монета устойчива почти во всех бытовых операциях с ней, но растворяется в царской водке. А с другой стороны, стеклянные предметы хрупки и малопригодны для изготовления каких-либо ручных инструментов, но они в царской водке не растворяются. Если объект устойчив на каком-то фоне, то он объективен, но необязательно «сподручен». Контролируемость – это то, что дает субъекту возможность воздействовать на объект, как-либо его изменять. Объект должен как минимум быть воспринимаем органами чувств субъекта, а это всегда означает воздействие на объект (для того, чтобы получить обратное воздействие от объекта – субъект его трогает, нюхает, осматривает), но без разрушительного воздействия от объекта. То, что под воздействием наших познающих действий теряет свою конституцию – вроде тех миниатюрных фигурок из карандашного грифеля, рассыпающих под пальцами – перестают «существовать». Но и никак не отзывающийся на наши действия объекты тоже для нас не существуют – если бы наше зрение базировалось на нейтрино, то мы бы ничего не видели, т.к. эти частицы не встречают сопротивления. Для человека не имеют значения живые существа на далеких планетах, обладай они даже сознанием, до тех пор, пока они не дадут о себе знать, т.е. пока они не воспринимаемы человеком, не оказывают воздействие на его органы чувств. Но также не будет объектом и неожиданное падение метеорита на нашу планету, т.к. оно уничтожит сознающий его субъект. Т.е. объект должен быть «вывернут» – с одной стороны он не уничтожается окружением, а с другой – взаимодействует в достаточной мере с субъектом. Объект «поворачивается» своей мягкой стороной, в то же время сохраняя с обратной стороны твердую оболочку. Устойчивость, как свойство, характеризует твердую, наружную сторону объекта; контролируемость – внутреннюю, откликающуюся на воздействия от субъекта.
Мы начали рассмотрение инструментов, которыми владеет субъект, с имён, т.к. это достаточно специфичный для человека инструмент по освоению мира. Философские вопросы существуют на языковом уровне, но важно заметить, что механизм именования – это разновидность общего процесса «нумеризации», при котором на определенном фоне появляется более-менее стабильный объект. На доязыковом уровне этот процесс «нумеризиции» проявляется как выделение на фоне, как камень в потоке из примера выше, как гора на плоском рельефе, «урочище» в широком смысле – как то, что конституирует себя как заслуживающее имени. Объекты на доязыковом уровне менее «объективны», чем референт языка, потому что физические объекты находятся в физическом мире, и зачастую менее контролируемы субъектом и более зависимы от непосредственного окружения, чем имена в языке, которые почти полностью контролируются субъектом и законсервированы от внешних воздействий. Языковые референты также подвержены изменениям, происходящим в физическом мире, но в связи с большей связностью языковых объектов между собой (что проявляется в большем количестве референтов, с которыми связан «среднестатистический» языковой объект), изменения там протекают медленнее, чем в физическом мире. Человечество до сих пор помнит названия древних городов цивилизации, хотя сейчас их трудно различить в зарослях джунглей Америки. Два качества объекта – устойчивость и контролируемость. Майя перестали контролировать свои города, и они потеряли устойчивость перед наступлением джунглей. А названия этих городов прошли через столетия из-за наличия этих двух качеств у имен, их обозначающих: начертание имени, написанное на глиняной табличке, сохранилось сквозь года и человечество обрело контроль над ними после дешифровки мужчиной с суровым взглядом, держащим в руках своего кота. Те языковые объекты, которые есть у субъекта, являются наиболее «объективными» (и возможно самыми аутентичными) из-за максимизации контролируемости и устойчивости у них. У этого есть издержки – появление тех самых вышеназванных вопросов, которые будут освещены здесь.
Человек имеет возможность контролировать и манипулировать именами объектов, потому что для этого выстроена соответствующая инфраструктура – набор инструментов для передачи сообщений посредством символов и знаков. Сейчас это главным образом – это интернет и компьютеры. Для их функционирования нужно электричество, кабели на дне океанов и спутники на орбите. Для работы этих инструментов – ГЭС, АЭС, месторождения нефти, никеля и алюминия. Для этих месторождений и энергетических объектов – доступность климатических условий и отсутствие пагубных воздействий на человека при их разработке. А для подходящих климатических условий необходима атмосфера и узкая вилка возможных расстояний от звезды, вокруг которой вращается планета, при которой климат планеты благоприятен для возникновения жизни. А чтобы атмосфера не покинула эту планету, необходима крупная планета в этой же звездной системе, которая бы своей массой притягивала крупные астероиды, которые могли бы в противном случае разрушить ту самую планету. А еще для никеля и алюминия нужны тысячи взрывов сверхновых, разносящих тяжелые металлы по всей Вселенной. И так далее, и тому подобное. Мириады факторов, сложившихся именно так, чтобы ты сейчас мог отправить смайлик с какашкой. Итоговое воздействие, которое произвел субъект (отправка сообщения) есть результат взаимодействия инструментов, которыми субъект обладает, на среду. Но всегда в тени остается континуум потенциальных взаимодействий, которые не произошли, и поэтому дали возможность произойти именно целевому, нужному воздействию. Как например, столкновение с Землей астероида миллиард лет назад или взрыв первого мобильного телефона во время того самого первого звонка, после которого их разработка была бы запрещена. Для целей этой работы нам необходимо сместить фокус внимания на то, что наоборот не произошло и не происходит. Какие-то нежелательные события не происходят, потому что человек идет по пути инструментального освоения окружающего мира, путем выстраивания безопасного пространства для себя в нем. Начинается всё с тела: глаза видят какой-то спектр электромагнитного излучения, уши слышат какой-то спектр звука, тело ощущает какой-то спектр температуры и т. д. Мы овладеваем этими инструментами, как объектами: смотрим глазами, слышим ушами. Два качества объекта – устойчивость и контролируемость. Мы их контролируем сознательным усилием. Далее, если ты не смотришь через бинокль на Солнце, то глаза будут в определенных пределах устойчивы к окружающей среде. Для человека обладание этими инструментами в большинстве случаем представляется как само собой разумеющееся, но, например, дети имеют большую «дистанцию» по отношению к своему телу, оно для них более объектно. Овладевая ими, дети играются с ними – испытывают их в различных условиях и вариациях – кружатся вокруг себя, чтобы почувствовать затем головокружение; отсиживают руку, чтобы представить, что это чужая конечность. Субъект, подходя к миру инструментально, имеет перед собой («в разработке») объект, который является паузой в потоке синтеза окружающего мира. При этом, инструменты, с помощью которых объект удерживается в поле влияния субъекта, можно условно поделить на две группы: явные, т.е. те, которые отвечают за контроль над объектом, и неявные – те, что обеспечивают его устойчивость в среде (при этом, вторая группа включает в себя весь континуум других объектов, наподобие действия далеких небесных тел на ведро Ньютона). Эти инструменты находятся за сценой, а если быть точнее, они, буквально говоря, и есть сцена для объекта. Но субъект может подвергать инструменты такому же анализу и таким образом объективизировать их. Даже начальные инструменты – человеческое тело не является строгой отправной точкой, с которой начинается субъект, т.к. при все более крупном масштабе эти инструменты (органы чувств, например), становятся объектами; объективизируются такими инструментами, как климат планеты, характер излучения звезды и хиральность молекул винной кислоты.
При движении наружу от субъекта в окружающий мир, инструментальное овладение миром предполагает расширение набора инструментов. Обезьяна сделала первый шаг по эволюционной лестнице, когда начала использовать подручные инструменты для достижения сиюминутных целей, например палку, чтобы достать плод с высокого дерева. Существовавшие объекты – конечности, – с помощью сознательного контроля направлялись на взаимодействие с другими объектами. Таким образом, субъектность обезьяны выходила за пределы её физического тела. В случае сохранения устойчивости изначального инструмента при взаимодействии (конечность осталась цела после того, как обезьяна взяла палку), осваивается новый объект – палка, который может быть обработан с помощью имеющихся инструментов (лапы) и который хранит в себе синтез – то воздействие, которое высвобождается с помощью палки, как, например, свистящий звук при размахе или сокрушающий удар. И вот обезьяна в экзальтированном состоянии бежит бить палкой все, что возможно – чтобы получить новый синтез, воздействие от мира. Этой палкой можно угрожать хищнику или другой обезьяне, чтобы она доставала плоды с деревьев. И пока порабощенная обезьяна выполняет эти требования буквально из-под палки (потому что у нее семья, работа, ипотека и т.п.), она служит инструментом второго порядка (инструмент первого порядка – палка) – инструментом, который работает при воздействии на него первичного «искусственного инструмента». Субъектность «альфа» обезьяны расширяется до включения в нее других обезьян.
Последовательность можно продолжать во все стороны человеческой деятельности, как лучи, проведенные во все стороны из единого центра. Все как бы исходит из человека – из его органов чувств и тела (если рассматривать только явные инструменты – те, которые позволяют управлять миром). Человек сталкивается с какими-то объектами (именно как objection – препятствие), подбирает к ним инструменты контроля и объект затем опосредуется и появляется новый инструмент, с помощью которого приобретаются другие инструменты и так вплоть до самых передовых и абстрактных задач, с которыми сталкивается человечество сейчас. Но представление мира как антропоцентричной системы не совсем верно. Человек выброшен в окружающий мир не как бестелесный субъект, находящийся за кадром; он, еще до появления сознания, – объект, участвующий во взаимодействиях с другими объектами и поэтому также опосредованный другими объектами. Поэтому он также обладает, по крайне мере, одним свойством, – он устойчив в системе, в которой он существует (к вопросу контроля человека как объекта другими субъектами мы вернемся в разделе про сознание). Его устойчивость обеспечивается неявными инструментами, которые без чьего-либо субъективного замысла позволяют объекту «выживать» в окружающей среде, не быть уничтожаемым воздействиями от других объектов, как например, существует сам по себе астероид в космосе, до того, как повстречает другое небесное тело. Поэтому окружающий мир представляется как совокупность объектов, которые определенным образом не взаимодействуют друг с другом, позволяя им самим существовать как обособленные объекты, а не как поток синтеза, сплавляющий их в единый поток, словно в разуме Шивы. Благодаря наличию вокруг человека устойчивых объектов, он может выстраивать цепочки взаимодействий, включающие в себя контролируемые объекты. Обезьяне из примера сверху дают погоны и устав – она становится инструментом контроля. Палка превращается в резиновую дубинку – и вот появляется инструмент третьего порядка (обезьяна-силовик палкой воздействует на обезьяну-гражданина). Такие цепочки сознательного контроля объектов окружающего мира могут быть внешне не отличимы от естественных процессов (чем объясняется тяга первобытных людей обожествлять явления природы, за которыми будто стоит чужая воля), в которых объекты взаимодействуют друг с другом, изменяясь при этом. Ключевой момент здесь – что эти объекты существуют, не сгорая в общем синтезе, не сливаясь в одну массу. Они стабильны сами по себе, и эта стабильность, как фон, обеспечивает разницу в объекте до и после воздействия среды.
Из-за появления человека в уже существующем до него мире, фактической выброшенности человека в мир, субъект вынужден познавать его с «середины». Он не познает его, словно компьютерная программа, реализующая из заданных объектов нужный алгоритм (и что не менее важно, программа не имеет свернутой истории, как совокупности решений, определивших её настоящее и будущее). Ребенок начинает познание с искусственных артефактов, которые являются вершиной развития человеческой цивилизации в данный момент. Его детские игрушки используют физические явления, которые не были подвластны его предкам из-за их несподручности, отсутствия у человека инструментов для управления, например, электричеством или взрывом, превратив их в фонарик и петарду. Такие объекты уже встроены в существующую сеть инструментов человечества и максимально для него адаптированы, в связи с чем возникает иллюзия, что вся эта совокупность объектов (как искусственных, так и «исконно» природных) построена вокруг и для человека. Но если подойти к крайним регионам этой инфраструктуры – оказавшись в первобытной цивилизации или в области еще нерешенных технологических проблем, то встречающиеся там объекты будут повернуты все чаще «твердой» стороной к человеку, той стороной, у которой нет удобной ручки. Как пример можно представить экскурсии на Эверест, в которых большое количество принципиально необуздаемых человеком факторов превращают туристическую экскурсию по типу all-inclusive в выживание. При таких условиях человек в большей мере вынужден считаться с внешними силами, которые воздействуют на него, как на объект. Под действием этих сил он может быть уничтожен, и поэтому человечество в целом вынуждено шаг за шагом продвигаться в необустроенном, независимом от него окружающем мире, строя по пути дороги, по которым ему можно пройти – это совокупность инструментов, с которыми мир становится сподручным.
Человечество овладевает природой с помощью системы устойчивых и контролируемых инструментов, представленных как совокупность явных инструментов – тех, что ждут своего применения человеком. Но определяющее значение имеет совокупность неявных инструментов – тех, что позволяют объектам существовать отдельно друг от друга, обеспечивая их независимость. Между двумя этими наборами инструментов нет четкого разделения, разделение условное, которое зависит лишь от внимания субъекта. Вместе они образуют общую систему инструментов человека. Назовем эту систему Одос (др. греч. ὁδός – «дороги»). Одос – эта совокупность всех имеющихся инструментов, которые используются для воздействия на какой-либо объект. Это – сцена, на котором представлен объект; операционная с набором медицинских инструментов для проведения тщательного анализа объекта. У нее нет начала или центра (который обычно локализуют в человеке), т.к. сам человек также является объектом для других природных сил. Нецентрализованная структура Одоса конституирована характером не-взаимодействия между объектами, которое определяет их устойчивость в мире, их «субстанциальность». Выше было представлено разделение на явные и неявные инструменты, которое достаточно условно: объекты, которые являются устойчивыми, могут быть использованы субъектом как инструменты и после взаимодействия потерять свою структуру (как например, теряют свою структуру пищевая сода, взаимодействуя с кислотой). Основание этой устойчивости – это не-взаимодействие этих объектов с другими, их стабильность в окружающей среде (на кухонной полке). Второе свойство инструментов – контролируемость – это способность субъекта взаимодействовать с объектом, высвобождая при этом воздействие, синтез. В связи с нелокальностью, Одос, как совокупность инструментов, сама может быть рассмотрена как объект; сама сцена становится актором на другой сцене. В кинематографе такой прием называют разрушением четвертой стены – когда прожектор переходит от сюжета к инструментам – сама кинолента, методы ее создания и воспроизведения. Возможность такого перехода заключена в нелокальной структуре Одоса: т.к. каждый объект, задействованный как инструмент, конституирован своей стабильностью в мире (до его применения и «стачивания» в процессе использования), то он может быть вырван из того синтеза, в котором он участвует (пленка, проходящая через камеру, подвергающаяся изменению) и проанализирована в стабильном состоянии. Нет такого объекта, который бы существовал снаружи всех других объектов и с ним нельзя было бы взаимодействовать, это логически противоречиво.

