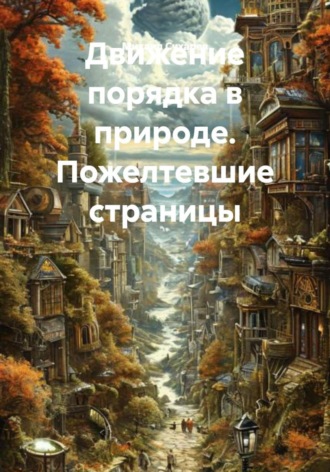
Полная версия
Движение порядка в природе. Пожелтевшие страницы
Нам известны тысячи случаев, при которых материальные тела теряют или приобретают движение или порядок (например, при испарении кристалла) но сохраняют количество материи, хотя определять количество материи массой или барионным зарядом есть некоторая вольность с точки зрения философии. (Мы не будем углубляться здесь в проблему превращения движения в материю, происходящего, например, в электрической лампочке, где из электрической мощности рождаются фотоны – все это вещи в высшей степени спорные, усиливающие момент диалектичности мира, но не ослабляющие его материальность как объективность)
Следовательно, преходящая в отдельном материя первична в философском смысле – как пребывающая во всеобщем.
Что мы получим за признание порядка атрибутом материи?
Во-первых, это соответствует нашим знаниям о материи. Нам неизвестна материя, в которой не существует хотя бы самый примитивный порядок.
Уже организация всей известной нам материи в роды одинаковых элементарных частиц говорит о наличии порядка, общего, даже в первые минуты после сингулярности, имевшей место в начале нашей Вселенной. Во-вторых, понимание того, что структура, род, идея, форма, закон, необходимость, информация, образ есть проявления единой категории даст те же преимущества (если это правда), что и понимание тепла, механического движения и биологического роста, как движения вообще. В-третьих, порядок есть необходимое звено в цепи категорий материя – неоднородность – взаимодействие – движение. Однородная материя (не имеющая внутреннего строения) – абстракция, соответствующая чистому бытию Гегеля, равному самому себе, не имеющему различения ни внутри себя, ни по отношению к внешнему [Гегель, Н Л, T.I, С. 140]. Это пустая абстракция, ибо такой материи, так же, как и материи без движения, никогда не было. Неоднородность и движение связаны – в однородной, бесструктурной материи, заполняющей Вселенную (если бы это было возможно), двигаться просто нечему. Если в материи существуют выделенные, определенные области – неоднородности, то нужна по крайней мере еще одна вещь, чтобы обнаружить движение. Это взаимодействие между движущимися (причем не обязательно движущимися в пространстве) сущностями. В результате получается элементарный порядок – две неоднородности, связанные взаимодействием. Невзирая на всю схематичность приведенного рассмотрения оно неизбежно как ноль и единица, упорядоченные в машинном слове или "соотносящееся с собой отрицание" [Гегель, НЛ, Т.З, С. 11]. И, последнее, представление о движении порядка в материи создает путь к новому пониманию диалектики.
Материализму не подходит мысль о том, что общее в единичном создается святым духом. Не может быть оно и случайным. Поэтому совершенно очевидно, что причина общего, общая причина, лежит вне единичного.
"Отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему" [Ленин, Т.29, С.318]. В какой связи? Разумеется, в материальной, и притом в связи, несущей идею, порядок. Это почти понимал Аристотель 1: "Ибо семя порождает [живое] также, как умение – изделия; оно содержит в себе форму и возможность…" [Аристотель, 75, 1034 а 30]. Материально-идеальное воспроизводство общества описано в "Капитале" К. Маркса: "… производственная жизнь и есть родовая жизнь. Это есть жизнь, порождающая жизнь"– писал он в "Экономическо-философских рукописях" [Маркс, Энгельс, Т.42, С. 93].
Нам неизвестно пока, какие материальные взаимодействия поддерживают организацию атомов и элементарных частиц (то есть, благодаря каким взаимодействиям передаются по Вселенной законы квантовой механики – но они должны как-то передаваться) но то, что атомы гелия излучают одинаковый спектр (тоже порядок!) в Солнце и в Сириусе – не игра случая и не прихоть святого духа. Возможно, некий вариант теории Единого поля, например, теория супергравитации, вскоре откроет нам, каким путем распространяется порядок в данном случае.
Мы не будем давать здесь определение категории "порядок" – ибо определить ее, подведя под более общую, невозможно, она сама предельно общая.
Важно понять одно – никакая сложно организованная вещь не возникает случайно, тем более множество вещей одного рода. Порядок не возникает скачком. Вероятность возникновения живой клетки в результате случайного соединения атомов исчезающе низка [см. Вигнер, 71, С.160]. Можно даже не подсчитывать, какова вероятность того, что все атомы водорода во Вселенной одинаковы случайно2. Уничтожить порядок легко, создать трудно. Поэтому каждая природная вещь имеет историю возникновения своего порядка, историю его движения в материи – будь это молекула, звезда или человек.
Порядок уходит вглубь вещества; мы получим медный шар, разместив в определенном порядке атомы меди, но мы получим и сами атомы меди, медь как таковую, связав в закономерном движении элементарные частицы. Уже Платон догадывался, что, соединяя в различном порядке некие первоначала, можно получить разное вещество [см. Рожанский, 79].
Вернемся к началу главы. Порядок делает вещь тем, что она есть. Порядок изменяется в любом процессе эволюции. Порядок связывает человека сегодня и десять лет назад.
И еще одно: "… если ничего не существует помимо единичных вещей – а таких вещей бесчисленное множество, – то как возможно достичь знания об этом бесчисленном множестве? Ведь мы познаем все вещи постольку, поскольку у них имеются что-то единое и тождественное и поскольку им присуще нечто общее" [Аристотель, 75, 999, а 25]. Только потому, что един внутренний порядок у атомов, молекул, вирусов, животных одного рода, исследуя некоторых из них, мы узнаем истину обо всех. Это – важнейшая гносеологическая, причина, требующая выделения порядка из реальности (но не отделения его), но есть и вторая. Узнать что-то означает изменить порядок движения социальной материи (в любой из его форм) в соответствии и под действием порядка объекта. Много раз философы писали о том, что луч света создает ощущение. Но дело в том, что не один луч света создает образ, а множество лучей (волновой фронт), порядок движения которых несет порядок того, от чего они отразились. Без этого порядка мы увидели бы просто свет. Даже цвет есть некий порядок – длина волны. В свою очередь ощущение инициируется не вообще нервными импульсами, а порядком, их следования в пространстве (от каких рецепторов и по каким волокнам они идут) и во времени.

Чем сложнее форма объекта, тем сложнее порядок этих импульсов. Э.В. Ильенков пытался разграничить идеальный образ и соответствующую ему структуру (порядок) импульсов. "От структур мозга и языка идеальный образ предмета отличается тем, что он – форма внешнего предмета" [Ильенков, 84, С.173]. Для того, чтобы убедиться, что эти структуры и представляют собой (представленная форма – термин Гегеля и Маркса, означающей идеальное) форму внешнего предмета, достаточно прервать эти импульсы или изменить их порядок; исчезнет или изменится сам идеальный образ.
Личностно-идеальное не может быть ничем иным, как порядком (видимо чрезвычайно сложным) распределения возбуждений (состояний) тканей мозга, вероятно вплоть до изменений на молекулярном уровне. Секрет идеальности, ее тайна, в том, что элементы этого порядка соответствуют порядкам вне мозга – вещей природы и порядков общества и в том, что будучи материальным порядком, он может управлять телом человека, действовать в материальном мире. Таким образом, закономерное движение материи отражается в закономерности движения мозга; порядок передается от одной части мира к другой. Подобным образом движение при столкновении передается от одного стального шара к другому.
Иногда говорят "диалектический материализм есть учение о всеобщей связи мира". Это положение требуется уточнить – не просто о связи мира, но о порядке связи мира; ибо общее есть в мире лишь потому, что связь его не беспорядочна.
Представление о порядке поможет конкретизировать ленинскую идею о всеобщности отражения; ясно, что никакого отражения вне порядка быть не может, но это не все – поняв отражение, как порядок, как информацию, мы сможем измерять его.
И тогда "…весь философский скарб… станет излишним, исчезнет в положительной науке". [Энгельс, Т.20, С. 525]
До сих пор философы объясняли мир, теперь настало время объяснить философию
Часть
II
. НЕСКОЛЬКО РАССУЖДЕНИЙ О ПОРЯДКЕ
2.1 Рассуждение первое – о словах
Представление о порядке, сложившееся в голове автора, само является определенной связью мыслей, образов и понятий.
Эти мысли, эти образы содержать в упорядоченном, закономерном движении материи нервной системы.
"Ощущение зависит от мозга, нервов, сетчатки и т.д., т.е., от определенным образом организованной материи…" [Ленин, Т.18, С.50].
Многие считают, что мысль, идеальное не являются ни строением, ни состоянием мозга, но порождаются им. Мысль Ленина "…познание человека = мозг человека (как высший продукт той же природы…)" [Ленин, Т.29, C. 164] воспринимается ими, как художественное преувеличение. В позиции этих мыслителей есть один недостаток – от них невозможно добиться вразумительного ответа на вопрос: каким же образом порождается это идеальное, что именно означает термин "порождение"? Из рассуждений сторонников этой школы видно, что они представляют себе мозг, как фабрику по производству нематериального духа. Более того, многие из них – принципиальные противники понимания мышления, как закономерного движения материи и работ, проводимых в этом направлении. Этих теоретиков вполне устраивает паралич сознания, охватывающий робких исследователей при грозных словах "редукционизм" и "механицизм". К счастью, инженеры не читают книг этих философов, а работают с вещами самой природы, в простоте душевной незаметно для себя повторяя ее путь к разуму. Ведь только теоретические знатоки диалектики не понимают, что развитие машин неизбежно превзойдет их меру и изменит их качество.
Представление о движении порядка в материи может навести порядок и здесь. Так вот, мышление, идеальное, душа человека есть порядок движения мозга или движение порядка в мозгу – как Вам больше нравится, но смысл идеального в том, что порядок в мозгу не есть его порядок. Такое гегельянское утверждение следует пояснить; попробуем сделать это так:
То же отношение, что существует между мозгом и остальным миром установлено сейчас между нами. Если Вы думаете, что читаете то, что я написал, то Вы заблуждаетесь – я пишу авторучкой, а Вы видите печатный текст. Тем не менее, как не крути, а Лев Толстой написал книгу, которая стоит у меня на полке. Порядок может передаваться от одной вещи к другой, становясь ее порядком и только кусочек, маленькая часть порядка моего мозга передалась в Ваш мозг. Так же не все порядки тетради, в которой писал Толстой, передались в книгу на моей полке. Там нет следов обложки, фактуры бумаги и так далее. Нет почерка (геометрии письма) писателя. Остался лишь порядок букв и слов, и то – приведенный к современной орфографии. Но, тем не менее, мы воспринимаем именно смысл, отправленный от него к нам. И есть еще идейный, мысленный почерк писателя, который легко узнается по нескольким предложениям.
Чтобы озадачить читателя, я воспользовался окольным путем – с помощью слов столкнул лбом две идеи, привел во взаимодействие два порядка, уже существовавших в Вашей голове: систему представлений о мозге и реальности, создававшуюся и проверявшуюся на прочность многие годы, и систему представлений о написании, печатании и чтении книг. То есть, смысл текста лишь отчасти заключен в связи его слов; они нужны писателю для того, чтобы изменять и передвигать чужие мозговые порядки, иногда невыразимые в словах. Невыразимые как в словах читающего, так и в словах пишущего.
Разумеется, я не хочу сказать, что электроны (или еще что-то у Вас в мозгу) начали двигаться в том же порядке, что и у меня; разные издания книги могут иметь разный шрифт и могут даже быть переведены на другой язык; важен не шрифт, а порядок связи общих людям понятий, на который указывает текст, общность которых в каждом человеке установлена общим миром и мировой культурой, хотя и закреплена в разных индивидуальных комбинациях возбуждений мозга.
Например, фраза «поставим стул на стол» – и все ясно, даже если это написано триста лет назад и переведено на другой язык. Слова указывают на связи между понятиями, соответствующими реальным вещам, отлично знакомым и читающему, и пишущему; связь вещей и понятий проверяется глазами и руками, которые много раз брали стулья и переносили туда-сюда. Но вот что бы сказал человек из 1950-х, если бы узнал, что его внук будет заботиться о коврике для своей мышки…
Общность порядка состоит здесь в том, что, хотя связи установлены между разными состояниями, но состояния эти относятся к одинаковым объектам, а определенная связь между определенными объектами и есть порядок. Связь же индивидуальных состояний в мозгу человека с общими предметами и явлениями мира устанавливается необходимостью материального существования организации тела человека в этом мире и обществе – то есть, жизнью. Если я связываю запах апельсина и его внешний вид, и Вы также – хотя эта связь выражена разными комплексами нервных импульсов – это не случайно, а определено тем, что апельсиновый запах и цвет связаны в реальных апельсинах. А сходство разных апельсинов тоже не случайно и определяется движением генокода (молекул ДНК) от их древних предков.
Гегель, стремясь к абстрактности, соединял друг с другом слова вместо того, чтобы соединять друг с другом представления читателей – и потому через его тексты приходится продираться, как через колючий кустарник – ведь для начала он оторвал слова от их обычного употребления. Если бы Гегель приводил больше конкретных примеров, понять его было бы много проще. Возможно, его поняли бы русские марксисты3, и история России пошла бы по другому руслу…
Отдав должное критике слов, нужно признать, что слова все же важнейшее средство общения между людьми, и поэтому надо установить связь между словом "порядок" и другими словами, использовавшимися в философии.
Ленин писал, конспектируя главу "Механизм" "Науки Логики" Гегеля: "Понятие закона сближается здесь с понятиями: "порядок"…, однородность; … необходимость; душа [объективной тотальности]; "принцип самодвижения". Это сближение очень важно" [Ленин, Т.29, С.167]. Ленин и сам сближает понятия "закон" и "необходимость".
Сравните между собой два симметричных определения:
"Мир есть закономерное движение материи, и наше сознание, будучи высшим законом природы, в состоянии только отражать эту закономерность" и "Познавать необходимость природы и из нее выводить необходимость мышления есть материализм" [Ленин, Т.18, С.172, 173].
Дополнительно надо учесть, что "необходимость неотделима от всеобщего", "законы или необходимости природы", [Ленин, Т.29, с.55, с. 72] и что “Форма всеобщности в природе – это закон”, [Энгельс, Т. 20, с. 549] а закон вещи – это ее родовое понятие [Гегель].
К этому надо добавить, что общее это – сущность [Ленин, Т. 29, C.241], а сущность это – истина бытия [Гегель, НЛ, Т.2, С.7]. Некоторые философы считают, что истина бытия – пустая, ложная категория. Они просто забывают о том, что мозг имеет бытие, и потому неспособны материалистически понять тезис Гегеля, утверждавшего что познание "есть движение самого бытия" [там же]. Правда, Гегель имел в виду, что бытие – это движение идеи, а в действительности идеи тоже – движение бытия; отмечая эту зеркальную противоположность, Энгельс и Ленин говорили о "материализме, стоящем на голове". К сожалению, довольно многие советские философы, пытаясь перевернуть это несчастное создание, для начала отрывают ему голову, а именно – представление о движении понятия в природе.
Ленин, между тем, писал: "Отрицать объективность понятий, объективность общего в отдельном и особом, невозможно. … Здесь надо искать истинного смысла, значения и роли гегелевской логики" [Ленин, Т.29, C. 160].
Но необходимо вернуться к словам. Несомненно, можно сделать интереснейшее исследование о категориях, употреблявшихся разными философами для обозначения порядка связи мира, категорий, делающих вещь "тем-что-она-есть"; но здесь, в этой небольшой работе, просто не хватит места. К тому же, так ли это важно для самого порядка вещей? Слова текут быстрее, чем мир – и только поэтому мы приближаемся к его пониманию в наших теориях.
Слова, слова, слова … – сказал Шекспир, самый великий мастер слова. Почему же он так пренебрежительно отозвался о своем материале? Слова прикреплены к устоявшимся понятиям, представлениям людей о мире, и тому, кто желает изменить эти понятия, приходится бороться со скорлупой слов. "Задача состоит в том, чтобы сделать окостеневший материал текучим, и возжечь живое понятие в таком мертвом материале" – писал Гегель, сам мастер по части "обламывания", "вывертывания" слов и понятий. [Гегель, НЛ, Т. 3, С.7]; мастером «вывертывания» слов назвал его Ленин [Т.29, C.135].
Не помню, кто из лингвистов назвал текст "машиной для изменения смысла слов" и кто из наших философов возмущался этим великолепным диалектическим определением. Критикам теории несоизмеримости надо бы указать на то, как текст "Капитала" изменил смысл понятия "стоимость", сделав его буквально несоизмеримым с его предшествующим смыслом.
Ведь нельзя считать, что слово "стоимость" не имело до того никакого смысла; Ленин писал, что учение Маркса "возникло как прямое продолжение учения величайших представителей философии, политической экономии и социализма …" [Ленин, Т.23, С. 40].
Так каким же образом удается с помощью одних слов изменять смысл других?
Во-первых, комплексы слов, соединенные логическими связями через их устоявшиеся значения и непротиворечивые внутри себя, часто содержат слова, имеющие иной смысл в другой хорошо организованной системе слов (другая теория или даже другая часть той же теории). История науки свидетельствует, что люди десятилетиями могут не обращать внимания на такое несоответствие; но когда кто-либо сталкивает эти системы, начинается крушение – разрыв старых связей слов с явлениями мира, которые они обозначали. Это период, названный Т. Куном «научной революцией». Потому-то "гений – парадоксов друг" ("Пушкин).
Во-вторых, перед глазами людей, к счастью, находятся не одни слова. Изменение строения тела общества в виде появления новых его инструментов приводит к изменению образов вещей в человеческом сознании, создавая дрейф смысла слов (сравните объем значения слова «лампа» до и после появления электричества, слова «электрон» у древних греков и сейчас); как ясно из диалектики, в какой-то момент этот дрейф приводит к качественному скачку – в чем и увидели такие философы, как П. Фейерабенд несоизмеримость понятий. Но качественный переход не уничтожает, а снимает предшествующее – как общество снимает жизнь, включая ее в себя. Правда, не всегда это столь очевидно – ведь и самолет снимает в себе паровоз.
Слово "порядок", выбранное мной4, может быть, не лучшее слово для того, что оно должно обозначать; если общественное сознание примет представление о развитии Вселенной, как движении и усложнении порядков внутренних и внешних материи, возможно, оно найдет и лучшее слово для этого понятия.
"Порядок" выбран, как самое гибкое из слов, обозначающих упорядоченность расчлененности.
"Идея" – противится сознанию ее внутренней сложности и носит слишком субъективный оттенок.
"Структура" – кажется оторванной от материи и, к тому же, чересчур атомистична – если в волне можно признать порядок, то структуру – лишь с некоторым напряжением.
Не хотелось употреблять и иностранные слова.5
Всеобщие понятия невозможно подвести под другие; "материя" в чистом виде ничего не дает для порядка, как неразличенное внутри себя; "движение" невозможно вне отношения различенностей, которое и есть простейший порядок. В.Б. Кучевский считает полезным употребление категории "субстанция" в смысле "сущностного единства материи и движения" [Кучевский, 83, С.233]; это справедливо, ибо подчеркивает неразделимость материи и движения, но кажется необходимым дополнить понятие субстанции еще одной стороной – порядком, отдав должное прозрению Спинозы. Введение категории "порядок" придаст третье измерение учению о всемирной связи – ведь общее есть в мире потому, что связь его не беспорядочна.
Выйти за пределы всеобщего понятия нельзя, как и выйти за пределы мира; но можно наполнить его содержанием изнутри.
Попытаемся же наполнить категорию "порядок" словами, теряющими смысл вне его; каждое из них богаче, как конкретное, но также не способно существовать без внутреннего порядка, как вещь – без материи.
Вот слова, выписанные из словаря Ожегова и логически связанные с порядком: агрегат, аккорд, алгоритм, гармония, граница (отношение между различенностями); граф и группа (математические), единство (собранное вместе и отделенное от прочего), зависимость, закон, идея, информация, история, каркас, канон, класс, количество (отделенное от прочего), коллектив, комбинация, комплекс, композиция, конструкция, конфигурация, концепция, линия, матрица, место (определенное), одно (если смешать его со многим, качество его исчезнет), около (= рядом), организация, отношение, очередность, план, порядок, правило, принцип, прогресс, ритм, род (отдельное от другого и объединенное общим порядком внутри его единиц), связь (отношение различенностей), сигнал, симметрия, совершенство (адекватный порядок), сознание (движение порядка в памяти), сооружение, строение, структура, сущность (внутренний порядок, имеющий смысл, т.е., общее), фигура, форма, число (количество, различенное в себе).
Ряд слов образует гнезда, видимо, обусловленные древним общим корнем. Вот, например, такая группа, расположенная в порядке большей сложности, организованности. (Пусть простят меня этимологи, если какие-то слова попали туда незаконно).
Ком – слепленное вместе
Комплект – определенные вещи, но порядок связи их внутри комплекта не имеет значения
Комель – к нему сходятся ветви
Комбинация – составленное вместе в неком порядке
Композиция – то же
Комплекс – порядок связей внутри него имеет не меньшее значение, чем связанные в нем элементы
В заключение рассуждения о словах хочется привести несколько пар противоположных по значению слов, образующих, так сказать, "оси координат" пространства значений:
порядок
беспорядок
необходимость
случайность
истина
ложь
гармония
безобразие
связь
бессвязность
понятие
бестолковость
идея
бессмыслица
И наконец, ком – противоположный, противопоставленный той грязи, из которой слеплен. Замечательно, что большая часть слов в правой колонке образована путем отрицания – человечество не захотело тратить специальные слова на такие ничтожные понятия!
2.2. Рассуждение второе. Порядок и ЭВМ
Практическая кибернетика – это пролог к пониманию мышления, как движения порядка в материи. Достаточно взглянуть на детей, занятых какой-то увлекательной игрой с персональным компьютером, услышать слова: "она хочет меня обмануть'', "она думает, что я пойду туда" – и становится ясно, что через несколько десятилетий спор о том, может или не может машина мыслить, тихо умрет и будет вопросом не в большей степени, чем вопрос: мыслит ли собака, или к примеру, клиент наркологического диспансера.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Абсолютно гениально. Организованность, которая в семени передается в виде генетической информации от родителей потомкам, в производстве изделий умением передается в виде знания – от человека к человеку, к его продукту. Вся человеческая экономика стоит на этом. Можно добавить к Аристотелю: И станок с ЧПУ порождает изделия за счет того же движения идей в материи, что и семя порождает живое – только теперь мы знаем внутренние механизмы этого движения.
2
Вероятность независимого возникновения М одинаковых атомов равна вероятности возникновения одного из них в степени М; поскольку атомов во Вселенной очень много, то эта вероятность практически ноль.
3
Ленин замечал, что Гегеля не понял до конца ни один из русских марксистов, а, следовательно, не мог понять и Маркса.



