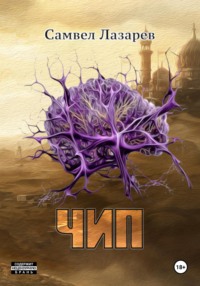Полная версия
Верёвка для империи

Самвел Лазарев
Верёвка для империи
Холод январского утра 1826 года проникал сквозь узкое зарешёченное оконце Алексеевского равелина, оседая на каменных стенах темницы тонким слоем инея. В камере № 7 Сергей Волконский лежал на голых нарах, разглядывая влагу, проступившую сквозь треснутую штукатурку потолка, скованную морозом и смутно напоминавшую карту Сибири, куда, быть может, ему скоро предстояло отправиться. Если не повесят вместе с остальными.
Совсем недавно на Сенатской площади трепетали знамёна, три тысячи человек кричали в едином порыве: «Конституцию!» Гремели голоса, но их заглушал грохот орудий. Он поёжился, сжал окоченевшие пальцы в кулаки, разгоняя кровь. Здесь, в тюрьме, время текло иначе, не так, как на свободе – не по часам, а по шагам часовых за дверью, по редким появлениям тюремщиков, каждое из которых могло стать последним.
«Мы мечтали о законе, а получили каменную тишину. Жаждали открытого суда, а нас ждёт тайная комиссия, чьи решения не подлежат обжалованию. Верили в диалог с государем, а вместо этого слушаем монотонный голос унтера», – думал Волконский, закрыв глаза, и перед ним вновь вспыхивали образы того дня: дым, крики, блеск штыков на фоне серого неба. «Ирония судьбы? Или неизбежность?»
В каземате стояла тишина. Лишь капли воды, срываясь с потолка, отбивали ритм, словно часы, отсчитывающие мгновения между прошлым и неизвестным будущим.
– Сергей… – шёпот из соседней камеры, где находился Иван Пущин, походил на скрип ржавых петель. – Рылеева увели. Третий час нет…
Волконский молчал. Он слышал, как конвой грубо поднял поэта-декабриста, чьи стихи знала вся просвещённая Россия. Слышал приглушённые стоны, когда того вели по коридору.
Дверь отворилась с лязгом, нарушив гнетущую тишину. В проёме стоял унтер-офицер Смирнов – невысокий, коренастый мужчина с лицом, на котором годы службы вырезали сеть морщин, а бессмысленная жестокость тюремной системы наложила печать вечной усталости. В руках он держал жестяную миску с похлёбкой, пар от которой смешивался с морозным воздухом подвального помещения.
– По распорядку, ваше благородие, – пробормотал унтер, избегая встретиться взглядом, словно стыдясь своей роли в этом театре абсурда.
Сергей медленно поднялся, чувствуя, как каждое движение отзывается болью в закоченевших суставах. Ещё в первые дни заключения он заметил: Смирнов, в отличие от других тюремщиков, выполнял обязанности без лишней жестокости и садистского удовольствия, которое читалось в глазах иных стражников.
– Спасибо, – сказал Сергей, принимая миску. – Как звать-то тебя?
– Смирнов, ваше благородие. Степан Смирнов.
– Служил где до крепости, Степан?
– В лейб-гвардии Семёновском полку, – нехотя ответил солдат. – До того как… – он замолчал, словно боясь закончить фразу вслух.
– До того как полк расформировали после бунта 1820 года, – промолвил Сергей. – Помню. Солдаты восстали против муштры и палочной дисциплины Аракчеева.
Смирнов замер. Каменная маска тюремщика дрогнула, обнажив на миг то, что он так тщательно прятал.
– Так вы… тот самый генерал, что за солдат заступался? Кто твердил, что честь мундира – не в золочёных пуговицах, а в уважении к тем, кто его носит?
Сергей кивнул. В груди что-то сжалось – не боль, нет, скорее давний шрам, который вдруг напомнил о себе.
– Да, он самый. Как там Василий? До сих пор в инвалидной роте? Получает ли казённое содержание? Или его, как и сотни других, вышвырнули на улицу после двадцати пяти лет службы?
Унтер отшатнулся. Удар пришёлся не в бровь, а в глаз.
– Откуда вы… – он запнулся. Этот государственный преступник, «изменник», знал не только его фамилию, но и судьбу его брата, который отдал армии лучшие годы, а взамен получил лишь нищету.
Сергей говорил тихо, но каждое слово звучало как удар молота по наковальне: – Мы изучали списки гвардейских полков, Степан. Знали, за кого боремся. Мы вышли не против государя – против системы, которая превращает людей либо в рабов, либо в надзирателей. Системы, где солдат Смирнов должен ненавидеть князя Волконского, хотя оба мы – лишь винтики в одном механизме, перемалывающем души, не разбирая чинов и званий.
В воздухе повисла тишина – тяжёлая, густая. Унтер-офицер стоял, сжимая и разжимая кулаки, будто пытался ухватиться за что-то реальное в этом новом, незнакомом мире, где правда оказалась куда страшнее лжи, а враги – куда ближе, чем казалось.
Когда дверь захлопнулась, из соседней камеры донёсся голос Пущина:
– Жестокий эксперимент, Сергей. Ты играешь с его душой, как ветер с флюгером.
– Нет, Иван, – тихо отозвался Волконский, глядя на миску с похлёбкой. – Я просто напоминаю ему, что у него есть душа. Что мы все – люди. В этом, возможно, и была главная цель нашего восстания.
II. Искушение чиновника
Кабинет генерала Чернышёва в Комендантском доме поражал своим продуманным великолепием. Здесь всё было рассчитано: и мягкий персидский ковёр, гасивший шаги, и портрет императора в золочёной раме, взиравший с недосягаемой высоты, и сам генерал – казавшийся воплощением почти абсолютной власти. На столе лежали свежие номера «Русского инвалида» – газеты, где уже вовсю клеймили «государственных преступников».
«Он не просто следователь – он инквизитор новой формации», – с горечью думал Сергей, глядя на импозантную фигуру в мундире, увешанном крестами и звёздами. «Он казнит не тела, а души. И наслаждается процессом».
– Князь Волконский, – Чернышёв не отрывал глаз от бумаг. – Следственная комиссия установила: вы входили в число руководителей тайного общества. Князь Оболенский показывает, что вы обсуждали возможность ареста царской семьи.
Сергей стоял молча, зная, что любые слова будут использованы против него.
– Молчите? Мудрая тактика, – усмехнулся Чернышёв, заглянув Сергею в глаза. – Особенно когда нечем опровергнуть показания тридцати девяти ваших соратников. Тридцать девять человек, генерал! Ваших друзей, товарищей…
Он встал и медленно подошёл к огромной карте России на стене. Палец скользнул по империи от Варшавы до Аляски.
– Вы, господа декабристы, хотели перекроить нашу империю по западным лекалам. Но Россия – не Франция. Здесь иные традиции, иная вера, иной народ. Вы пытались привить розу к берёзе – но розы на севере не растут.
– Мы хотели отменить крепостное право, – тихо, но чётко сказал Сергей. – Дать свободу миллионам. Разве это преступление?
– Свободу? – Чернышёв резко обернулся. – А кто спросил эти миллионы? – он вернулся к столу и взял знакомый листок. Сергей узнал почерк матери – тот самый, что когда-то выводил ему письма в Лицей. – Ваша мать, Александра Николаевна, подала прошение на высочайшее имя, – Чернышёв произнёс эти слова с особым, почти сладострастным ударением. – Пишет, что в детстве вы были слабы и болезненны… Уверяет, что горячка повредила ваш рассудок… Она умоляет о пощаде для безумца.
Сергей почувствовал, как по его лицу струится ледяной пот. Генерал нанёс удар в самое сердце. Слова Чернышёва просочились внутрь, как вода сквозь трещины льда на Неве.
Перед внутренним взором вспыхнул образ матери – не той, что склонилась над унизительным прошением, а той, что десять лет назад стояла у ворот Лицея. Он вспомнил её прямую спину, будто отлитую из бронзы, и взгляд, в котором не было ни слезинки, ни дрожи – только абсолютная, почти пугающая уверенность в его судьбе. Тогда она вложила в его ладонь не букварь, а нечто большее: негласную хартию рода. «Береги платье снову, а честь – смолоду». И вот теперь эту честь, которую он хранил с ревнивой тщательностью, предстояло принести в жертву. На алтарь чего? На алтарь телесного спасения, превращающего душу в пустынную оболочку, где эхо былой гордости будет звучать как насмешка.
Второй – измученный – шептал: «Можешь ли ты отвергнуть её любовь и жертву? Твоя жизнь, оплаченная материнским позором, станет для неё единственным утешением!»В груди кипела безмолвная буря. Два непримиримых голоса звучали в его голове: Первый – ледяной, твердил: «Ты не вправе. Приняв эту ложь, ты не просто оклевещешь себя – ты предашь всех, кто верил в твою непоколебимость».
Сергей застыл, впиваясь взглядом в узор персидского ковра, но видел не его. Перед ним стояло лицо Чернышёва – не генерала, не следователя, а человека, чья улыбка таила в себе дьявольскую расчётливость. Он бил не по заговорщику, не по солдату. Он метил в самое уязвимое – в сына. И в этом заключалась особая, изощрённая жестокость: генерал знал, куда направить клинок, чтобы рана оказалась смертельной.
– Она… мать… – голос Сергея сорвался, став чужим, хриплым, будто принадлежащим кому-то другому. Он сглотнул горький комок, заставляя себя говорить ровно: – Она пытается спасти сына. Это её право. Её долг. Но мой долг… – Волконский поднял глаза, – мой долг – не принять эту цену. Я не посмею обменять честь на жизнь.
В этот момент он понял страшную истину: Чернышёв оказался прав в одном – их борьба действительно была обречена. Но не потому, что их идеи ошибочны, а потому, что они недооценили силу системы, способной превратить любое благородное побуждение в преступление, а любую жертву – в позор.
III. Долг любвиГод назад Мария Волконская, дочь героя Отечественной войны, блистала на балах, и сам государь приглашал её на мазурку. Зимний дворец представал морем парчи, бархата и орденских лент, но княгиня выделялась среди знати – не платьем или украшениями, а тем особым спокойствием, которое обретают люди, сделавшие окончательный выбор.
Теперь она ждала аудиенции у человека, который решал, быть ли ей вдовой или разделить участь мужа-государственного преступника. В кабинете её встретил не Чернышёв, а немолодой чиновник с рыбьим лицом и начисто лишённым интонации голосом.
– Княгиня, – начал он, не глядя на неё, – следствие установило, что вы, зная о преступных намерениях супруга, не сочли нужным уведомить власти. Это само по себе является соучастием.
Мария смотрела в заиндевевшее окно, за которым угадывался шпиль Петропавловского собора.
– Я считала своим долгом следовать за мужем, – тихо, но чётко произнесла она. – Как когда-то моя бабка последовала за дедом в его сибирскую ссылку. В нашей семье это называется верностью.
– Верность? – чиновник скучающе сделал отметку на полях протокола. – Ваш Николенька останется без матери. Вы лишаете его не только титула и детства, но и доброго имени. Мальчику предстоит расти с клеймом сына каторжника.
Внезапно дверь распахнулась без стука, и в кабинет вошёл Чернышёв. Одним взглядом он отпустил чиновника и, оставшись наедине с Марией, сел на край стола, демонстративно нарушая все правила этикета.
– Преданность, сударыня, – произнёс он, неторопливо перелистывая страницы следственного документа с нескрываемым интересом, – понятие весьма условное. Ваш благоверный хранил присягу призрачным догмам, отвергнув живого самодержца. А вы… вы, храня почтение к нему, отрекаетесь от собственной родни – дряхлеющего отца, матери, что не находит покоя в ночные часы. Где же та грань между истинной верностью и изменой? Что перевешивает на весах судьбы: долг перед ушедшим или забота о живых?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.