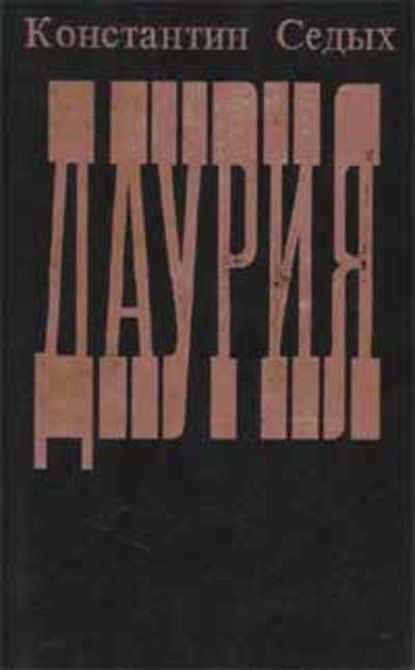Полная версия
Даурия
– Ты, что ли, его саданул? – спросил Северьян Каргина, боясь, что тот ответит утвердительно.
– Нет, я не в него стрелял.
– Тогда, значит, я влепил…
Пуля занизила и попала волку в грудь. Когда подошел Северьян, зверь уже издыхал. В страшной, последней ярости уставленные на человека зрачки его глаз мутились, стекленели. Все более тусклыми делались в них блики света. Сильные когтистые лапы зверя судорожно загребали землю. По шелковистому ворсу подгрудника алым червяком ползла кровь…
С облавы возвращались далеко за полдень. На гибких и длинных жердях, просунутых меж связанных лап, несли четырех волков. Волка, убитого Северьяном, несли Роман и Данилка Мирсанов, часто вытирая обильно выступавший на лицах пот.
На берегу Драгоценки сделали привал. Пили пригоршнями воду, умывались. Прямо над ними, под шаровыми снежно-белыми облаками, кружили, изредка перекликаясь, журавли-красавки.
Неудачно стрелявший во время облавы отец Дашутки Епифан Козулин, рано поседевший казак, взял да и выпалил в журавлей. Пуля не потревожила их.
– Не донесло, Гурьяныч, – посочувствовал Епифану Никула. – Шибко они высоко. Тут из трехлинейки бить надо, а из берданки – только патроны зря переводить.
– А вот посмотри, – ответил Епифан и выстрелил снова.
Но и вторая пуля не потревожила гордых, звонко курлыкающих птиц.
– Разве мне попробовать? – спросил у Северьяна Каргин.
Отмахиваясь веткой черемухи от мошкары, Северьян улыбнулся:
– Не жалко патрона, так попробуй. Их ведь в такой вышине из пушки не достанешь.
– Все-таки попробую.
Каргин встал на колено, хищно прищурился, вскидывая берданку. Хлопнул выстрел.
– Тоже за молоком пустил, хоть и атаман, – съязвил Епифан. – Видно, не нам их стрелять.
– Платон, попробуй ты. На тебя вся надежда. Если уж и ты не попадешь, тогда не казаки мы, а бабы, – сказал Каргин.
Платон сначала отнекивался, но потом согласился. Но и его выстрел был неудачным. Роман, которому тоже хотелось выстрелить в журавлей, не вытерпел, подошел к отцу и попросил:
– Тятя, дай мне пальнуть.
– Ишь ты, чего захотел, – рассмеялся Северьян. – Ну-ну, бабахни. Пускай еще один патрон пропадет.
Роман взял у отца берданку. Сняв с головы фуражку, неловко опустился на колено и застыл, напряженно целясь.
– Народ, берегись! – закричал Никула. – Этот призовой стрелок заместо журавля в момент ухлопает.
Роман выстрелил. Следивший за журавлями Никула завел с издевкой:
– Целился в кучу, а попал в тучу… – и, не докончив, изумленно ахнул: – Ай да Ромка, влепил-таки!
Все увидели, как один из журавлей внезапно остановился, покачнулся и, как сносимый ветром, стал косо и медленно падать. Упал он на широкой приречной равнине, около высыхающего озерка. У мельничной плотины играли казачата. Завидев падающего журавля, они наперегонки пустились к нему. Раненный в крыло журавль затаился в густом тростнике. Его нашли, цепко ухватили за двухаршинные крылья и повели. Шел он танцующим, легким шагом. И когда его неосторожно дергали за раненое крыло, он печально и громко вскрикивал, пытаясь клювом достать казачат.
– Ну, удивил твой Ромка народ, – сказал Северьяну Платон, – а ведь ружья правильно держать не умеет.
– Бывает, – согласился Северьян.
Но Платон не унимался, его самолюбие было задето.
– Он и в корову за десять шагов не попадет, а тут птицу вон на какой высоте срезал. Одно слово – фарт.
Разобиженный словами Платона, Роман сказал ему, посмеиваясь:
– Хочешь, я твою фуражку на лету продырявлю?
– Сопли сперва вытри, а потом хвастай.
– Платон, а ведь ты струсил, сознайся. Фуражки тебе жалко, – подзудил Никула.
– Жалко? Есть чего жалеть. Да он все равно не попадет.
С этими словами Платон снял с головы фуражку, внутри которой на голубом сатине подкладки желтел клеенчатый червонный туз – фабричная марка, отошел шагов на тридцать. Заметно волнуясь, метнул фуражку вверх. Роман, боясь промахнуться, повел берданкой. Хлопнул выстрел.
Платон подбежал к фуражке, поднял ее и удрученно крякнул:
– Потрафил-таки, подлец! Испортил фуражку. А ведь я только позавчера ее купил. Задаст мне теперь моя баба. Уж она меня попилит, прямо хоть домой не показывайся. Сукин ты сын, Ромка!
– Не надо было бросать.
– Затюкали ведь… Поневоле бросишь.
Хохотавший до слез над Платоном Елисей Каргин подозвал Романа, похвалил его и небрежно кинул ему целковый.
– Возьми от меня на поминки по Платоновой фуражке.
Роман поблагодарил атамана, но деньги принять отказался. Никула не вытерпел и толкнул его в бок:
– Бери! Целкаш на сору не подымешь. Я тебе помогу истратить. Вина купим, конфет.
Роман усмехнулся и ответил:
– У меня от конфет зубы болят.
6
У церковной ограды толпилась собравшаяся на игрище молодежь. Девки, повязанные цветными гарусными шарфами, отплясывали под гармошку кадриль. Пыльный подорожник скрипел под ногами пляшущих пар. Парни с нижнего края сидели на бревнах, пощелкивая праздничную утеху – каленые кедровые орехи. Верховские играли на площади в «козелки» и неприязненно поглядывали на них. Они искали подходящего случая свести с низовскими какие-то старые счеты.
Роман и его дружок Данилка Мирсанов на игрище пришли поздно. Поздоровались с девками и подсели к своим на бревна. Желто-розовая заря догорала над сопками. Изредка по ее светлому фону проплывали черные тучки. Это далеко-далеко над степью летели на ночлег запоздалые стаи галок. В туманной низине за огородами ржал сосунок-жеребенок.
– Хочешь, Роман, орехов? – спросил трусоватый плюгавенький парень Артамошка Вологдин.
– Давай.
– Вы пошто так поздно?
– Да дело было.
– А мы думали, что не придете. Домой уходить собирались.
– С чего это?
Артамошка наклонился к нему, зачастил приглушенной скороговоркой:
– Да тут, паря, верховские беда как задаются. Однако драться полезут. Я на всякий случай тебе эту штуку припас, – он показал Роману спрятанную под рубаху гирьку с ремешком на ушке. – Может, кого-нибудь стукнешь? Верховских теперь не сожмешь. У них Федотка Муратов заявился. Разодетый, как барин. Сейчас у Шулятьихи гуляет.
Словно в подтверждение Артамошкиных слов, на улице, в обнимку с Алешкой Чепаловым, круглолицым и пухлощеким купеческим сынком в лакированных сапогах, появился сам Федотка. Он еле стоял на ногах. На нем синели новые с лампасами шаровары; дорогая, с белым верхом и черным бархатным околышем фуражка, какие носили чиновники горного управления, была небрежно заломлена набекрень.
– Сейчас заварит кашу, недаром возле него Алешка увивается. Подзуживает.
– Его и подзуживать не надо, – сказал Роман, незаметно поднимая камень с земли и пряча его в карман.
Федотка Муратов был саженного роста, нескладно скроенный, но крепко сшитый детина с лихими светло-зелеными глазами, с рыжим чубом. Однажды на пашне у него заупрямился бык. Взбешенный Федотка ударил его кулаком в ухо. Бык сразу лег в борозду, из ноздрей его хлынула кровь. Насилу его отходили. И еще недавно был случай, и тоже с быком. Елисей Каргин продал скотопромышленнику быка-производителя. Дело было в праздник, осенью. Быка вывели за ограду. Дальше он не пошел. Его били бичами, сапогами, тянули за потяг три человека, но он не шел и, застыв, как каменный, тоскливо и глухо мычал. Тогда вмешался сидевший на завалинке с парнями Федотка. Плюнув на руки, он подошел к быку и взялся за потяг.
– Отойди-ка, – сказал он скотопромышленнику.
Бык был раскормленный, угловатый. Его вороная спина, широкая, как столешница, лоснилась. Могучими мехами ходили потные бока. Пунцовые дымки густели в круглых свирепых глазах. Упираясь широко расставленными ногами, бык закрутил тяжелой рогатой головой, вырываясь из рук Федотки. Федотка перекинул потяг на правое плечо. Бык осел на задние ноги. Потяг натянулся, задрожал, как струна. Федотка, нагибаясь, падая всей грудью вперед, потянул за потяг. Прошла секунда, другая, и бык не пошел, а покатился за ним. Через прорезы его копыт брызнули кверху черные струйки земли. Дотащив быка до телеги, Федотка крепко привязал его к оглобле и выпрямился, убирая зернистый пот. Толстяк-скотопромышленник сел в телегу, тронул лошадей. И бык покорно пошел за телегой, по-телячьи помахивая хвостом.
Года четыре тому назад, еще подростком, Федотка нанялся в работники к Петровану Тонких, а последний год работал у Платона Волокитина. В праздники воровал из хозяйских амбаров, подделав ключи, пшеницу, пил ханшин, играл в карты, дрался с низовскими – один на десятерых. Крепко увечил он низовских ребят, увечили и его.
На Святках из поселка Байкинского приехал к купцу Чепалову жених. В ту же ночь Федотка с братом Елисея Каргина Митькой забрались в чепаловский двор и обрезали у жениховских лошадей хвосты. Опозоренный жених назавтра чуть свет ускакал домой. А днем Елисей Каргин полез на чердак зимовья и там под овечьими шкурами нашел мешок с хвостами. Митьку он отхлестал сыромятным ремнем, а Федотке велел убираться из поселка, куда ему любо. Тогда-то и ушел Федотка на прииски. И, как видно, там ему повезло.
– Здорово, публика! – заорал Федотка, подходя к толпе.
– Здорово! – невесело отозвались на его приветствие.
Девки перестали плясать. Испуганно сгрудившись у церковной ограды, стали шептаться. Федотка направился к ним. – Ну, чего, девки, умолкли? Каши в рот набрали?
– Тебя испугались. Ишь, какой ты красивый, – выпалила Дашутка, хоронясь за подруг.
– Не бойтесь, шилохвостки, драки не будет. Низовские, правильно говорю я?
– Не наскочите, так не будет.
– Это кто же такой храбрый? Ромка, ты, что ли?
– А хоть бы и я!..
– Ну и черт с тобой, молокосос! – Федотка махнул рукой. – Жидковат ты супротив меня. Подрасти сначала, а потом задавайся.
– Я не задаюсь.
– Ну ладно, не хочу я сегодня драться. Поняли?
– И хорошо делаешь.
– Сегодня я плясать хочу… Дашутка, ягодка, пойдем кадриль плясать.
– Не пойду. Других поищи…
– И найду! – Осторожно переступив через прыгающую в траве лягушку, которую в другое время обязательно бы раздавил, Федотка подошел к Агапке: – Пойдем, Агапеюшка, с тобой.
– Пойдем, пойдем, – весело согласилась покладистая Агапка.
– Люблю таких! Музыкант, играй, не то играло поломаю!..
Когда расходились по домам, Роман догнал Дашутку.
– Можно тебя проводить?
– Не надо. Боюсь я за тебя. Подкараулит тебя Федотка – изувечит.
– Не напугаешь, – засмеялся Роман и закинул руку на ее правое плечо.
У проулка за школой их догнал Алешка Чепалов. Бурно дыша, он толкнул Романа.
– Отойди, каторжанский племянничек! Нечего чужих девок отбивать!
– Не лезь, а то по зубам съезжу.
– Попробуй только, арестантская твоя морда…
Роман отпустил Дашутку и схватил Алешку за горло. Тот захрипел, но успел громко крикнуть:
– Федот!.. Наших бьют!..
Из-за угла вывернулся тяжелый на ногу Федотка. За ним бежали еще трое. Роман сшиб Алешку и бросился наутек, Федотка погнался за ним.
– Врешь, догоню! – орал он во все горло.
Роман перемахнул через плетень в чью-то ограду. На мгновение остановился и с издевкой поклонился Федотке.
– До свиданья. Пишите!
Домой он вернулся по задворью. Сняв на крыльце сапоги, осторожно, чтобы не скрипнула, открыл сенную дверь. Мимо отца, спавшего в кухне, прошел на цыпочках, разделся и лег на разостланный в горнице потник.
На заре он увидел сон: за ним гнался через весь поселок с железным ломом в руках Федотка. У Романа подсекались ноги. Он бежал долго, а Федотка не отставал, и все ближе звучал за спиной зловещий Федоткин басок:
«Врешь, не уйдешь!»
Вот и дом. Роман, хлопнув калиткой, вбежал в ограду. А Федотка тут как тут. У крыльца он догнал Романа, размахнулся и опустил ему на загорбок пудовый лом. «Ай, ай!» – заревел Роман и проснулся.
Прямо над ним стоял с поясным ремнем в руках дед Андрей Григорьевич, собираясь вторично огреть его пряжкой. Роман вскочил как ошпаренный, схватил дела за руку:
– Ты что?
– Чтобы не фулиганил, не стыдил нас с отцом, подлец! Мы спим, ничего не знаем, а ты людей калечишь.
– Каких людей?
– Память отшибло. А за что ты вчера Алешку побил?
– Какого Алешку?
– Я тебе дам, какого! Раз виноват, казанскую сироту из себя не строй.
– Он сам на меня, дедка, наскочил. Вот те крест, сам! Я пошел девку провожать, а он догнал и ударил меня.
– А ты бы взял и отошел. Разве девок-то мало?
– Каторжанским племянником он меня обозвал. А я не стерпел.
– Гляди ты, какой подлец! – возмутился Андрей Григорьевич. – Нашел, чем попрекать! Паскудный, видать, парень. А только зря ты связался с ним.
– Да я его не бил, а только толкнул.
– Толкнул? Тут ведь сам Сергей Ильич приезжал. Грозится он нас к атаману стаскать. И стаскает, проклятый, чтобы у него пузо лопнуло. Ему тут случай над нами, Улыбиными, поиздеваться. Скажет: «Один у вас на каторге, и другой туда же просится». И придется твоему деду, георгиевскому кавалеру, тянуться перед ним да глазами хлопать. И за кого? За внука… Напрасно, выходит, я тебя умным парнем считал. У-у, запорю! – И расходившийся дед снова огрел Романа пряжкой.
– Да перестань ты! – взвыл Роман и вырвал у него ремень. – Я тебе сказываю, что он сам полез.
На крик вбежала мать Романа Авдотья и принялась ругать деда:
– Постыдился бы, старый, ремнем махать! Мало ли что по молодости не бывает? А ты запороть грозишься. Когда сам молодой был, небось почище штуки выкидывал.
– Выкидывал! – передразнил старик невестку. – Я ему дед али кто? Должен я его учить али пускай дураком растет?.. Наше дело, сама знаешь, какое. Где другим ничего не будет, там с нас шкуру снимут.
– С какой это стати? – не сдавалась Авдотья. – Мы за Василия не ответчики. Он своим умом жил.
– Это мы с тобой так рассуждаем. А у богатеев другой разговор. Они – сынки, мы – пасынки, – угрюмо проворчал старик и приказал Роману: – Пей чай, да на пашню ехать надо. Прохлаждаться нечего.
Проезжая на пашню мимо дома Чепаловых, Роман натянул фуражку на самые уши и скомандовал держащему вожжи Ганьке:
– Понужай!
7
Улыбины ночевали в поле. Коней стреножили и пустили на молодой острец, а быков после вечерней кормежки привязали к вбитым на меже кольям. За пашней, над круглым озерком, неподвижно повис туман, из ближнего перелеска сильнее повеяло ароматом цветущей черемухи. Вечер был теплый и тихий. Дымок улыбинского костра синей полоской тянулся далеко в степь. Чей-то запоздалый колокольчик доносился с тракта.
Поужинав при свете костра, Улыбины стали укладываться спать под телегой. Только разостлал Северьян войлок и начал мастерить изголовье, как Ганька, дернув его за рукав, прерывисто зашептал, показывая на двугорбую сопку, прямо за пашней:
– Гляди, тятя, гляди! С сопки двое вершников спускаются. Вон они…
Всадники, ехавшие по самому гребню сопки, показались Северьяну неправдоподобно большими. На зеленоватом фоне сумеречного неба четко обозначивались их силуэты с ружьями за плечами. Сомнения быть не могло, спускались они прямо на огонь улыбинского костра. Через минуту всадники круто повернули вниз и сразу пропали из виду. Роман взглянул на отца и увидел, как он пододвинул к себе берданку. Тогда Роман нашарил в траве топор и также положил его рядом с собой, отодвинувшись в тень. Ночью да в безлюдном месте осторожность никогда не мешает.
С топором под рукой Роман вглядывался в ночной сумрак и слушал. По склону сопки из-под конских копыт катились с шуршанием камни. По частому лязгу подков определил он, что всадники едут по крутому спуску и кони все время, широко расставляя ноги, приседают на них, от этого и катятся камни. Скоро дробный топот послышался совсем близко. В свете костра появилась лошадиная морда, вокруг которой сразу закружились ночные грязно-белые мотыльки и мошки. Голос, показавшийся Роману знакомым, назвал его отца по имени.
– Кто это? – спросил Северьян, без опаски выходя на освещенное место.
– Своих не узнаешь. Разбогател, что ли?
С конем на поводу к нему подходил, разминая затекшие ноги, посёльщик Прокоп Носков, добродушный и несколько грузноватый казак, служивший надзирателем в Горном Зерентуе. Был Прокоп из бедной и трудолюбивой семьи и доводился Улыбиным дальним родственником. Вернувшись после русско-японской войны домой, не захотел он идти в батраки и устроился сначала стражником на соляных озерах, а оттуда ушел в надзиратели. Его появление заметно взволновало Северьяна. Раньше относился он к тюремным надзирателям со спокойным безразличием постороннего человека. Их существование не касалось его. Не ждал он от них для себя ни хорошего, ни плохого. Но с тех пор, как Василий попал на каторгу, стал Северьян опасаться, что рано или поздно их семье придется иметь дело с надзирателями. Василий в любую минуту мог решиться на побег. А в таком случае искать его, допытываться о нем будут прежде всего у родных. Поэтому при виде Прокопа невольно мелькнуло у него предположение, что произошло именно то, чего он одновременно желал и боялся. Но он не выдал своего беспокойства.
Притворно зевнув, одернул он привычным движением рубаху, пожал протянутую Прокопом руку и спросил:
– Куда путь-дорогу держите?
– Вчерашний день ищем, – расплылся в улыбке круглолицый и толстогубый Прокоп, снимая с плеча винтовку. Увидев недоумение на лице Северьяна, он поспешно добавил: – Разлетелись из нашей клетки пташки. Вот и ловим их по темным лесам…
Из-под телеги вылез Ганька и обратился к Прокопу:
– А я вас первый приметил. Еще на сопке вы ехали, вон там…
Прокоп назвал его молодчиной, а подошедшего следом за Ганькой Романа весело спросил, скоро ли будут гулять у него на свадьбе.
– Об этом после действительной службы думать будем, – ответил за сына Северьян и тут же приказал Роману идти за водой, а Ганьке подкинуть в костер дров.
Когда Роман вернулся от озерка с ведром воды, Прокоп и незнакомый, угрюмого вида надзиратель, приехавший с ним, сидели вокруг огня, подогнув под себя по-монгольски ноги. Прокоп рассказывал, кого они ищут.
Оказалось, на днях из зерентуйской тюрьмы бежало восемь человек уголовных. Прокоп называл их «иванами». Бежали они из партии каторжников, которую вывели в тайгу на заготовку дров. При побеге они зарезали одного конвойного солдата и троих обезоружили. Двое из «иванов» были пойманы еще вчера в кустах на Борзе наткнувшимися на них казаками Байкинского поселка. Но остальные успели скрыться. На поимку их отправили конвойную полуроту и всех свободных надзирателей. У беглых были четыре винтовки, и переполоху они могли наделать немало.
Выслушав Прокопа, Северьян покачал головой. Он считал безрассудным, что двое надзирателей отправились разыскивать шестерых каторжников, вооруженных и готовых на все. Северьян хорошо знал, как дерутся беглые, когда настигает их погоня. Он помнил за свою жизнь по крайней мере десять случаев, когда люди, вышедшие на волю, предпочитали умереть от пули казака или надзирателя, чем снова пойти на каторгу. Он пощипал свой желтый ус и откровенно сказал, что думал:
– Зря ты, паря, к тюрьме пристал. На такой службе ни за грош ни за копейку голову потеряешь. Бросай эту службу, послушай моего совета.
Прокоп бросил окурок папиросы в огонь и захохотал, показывая обкуренные, желтые зубы:
– Ишь ты, враз все мои дела рассудил. – И добавил задумчиво: – Службу, паря, бросить нетрудно, да ведь есть-пить надо, а другая не вдруг подвернется. Я вон как ушел из стражников, полгода без дела слонялся. Так что поневоле за свою должность держишься, какая бы она ни была.
Его спутник поднялся и пошел к привязанному у телеги коню. Он снял с седла переметные сумы и вернулся с ними к костру. Развязав их, стал выкладывать на холстину творожные шаньги, вареные яйца, холодную баранину и нарезанное ломтиками сало, поставил бутылку водки и две жестяные кружки. Северьян покосился на бутылку, обхватил колени руками и сказал со вздохом:
– Эх, ребята, ребята!.. Сладко вы едите и вволю пьете, а я не завидую вам. Мне бы на вашем месте любой кусок поперек горла становился.
– Это почему же?
Если бы Прокоп был один, Северьян прямо ответил бы ему, что считает надзирательскую службу постыдным занятием. Но при чужом человеке не решился на такой ответ. Вместо этого он уклончиво проговорил:
– Боялся бы за беглыми гоняться.
Прокоп принял его слова за чистую монету и стал возражать:
– Бояться нечего, паря. За беглыми мы гоняемся нечасто. За весь год это первый случай. До этого у нас все чин-чином шло. Правда, с уголовщиками всегда ухо востро держи. Зато с политическими ничего живем, дружно. Начальник тюрьмы у нас Плаксин – человек неплохой. Он с «политикой» себя умно ведет, старается не раздражать ее… Только, кажись, его скоро уберут от нас. Разговоры об этом давно идут. Еще на Пасхе приезжал к нам один большой начальник из тюремного управления. И нам и Плаксину он много крови попортил. Помнишь, Сазанов, – обратился он к своему спутнику, – как он орал при обходе: «У вас не тюрьма, а какая-то богадельня! Кто вам дал право устанавливать свои порядки?» А после его отъезда генерал-губернатор Кияшко влепил Плаксину выговор.
– Тогда уберут его, вашего Плаксина, – сказал убежденно Северьян. – На таком месте хороший человек не удержится.
В разговор вмешался Сазанов:
– Плаксин просто хитрюга. Я его уже раскусил. Он бы давно всю «политику» в гроб загнал, да за свою шкуру трясется. Знает, что это даром не пройдет. В момент ухлопают, в любом месте достанут. Вот он и старается «политику» не задевать.
– Да как же они его достанут, если сами за решеткой сидят? – хитренько ухмыльнулся Северьян, решивший, что Сазанов малость заврался.
– Из-под земли достанут, а убьют. И не они это сделают, а их дружки ухлопают, товарищи с воли. У них это дело здорово поставлено. Раньше я, до Горного Зерентуя, в алгачинской тюрьме служил. Был у нас там начальником Бородулин. У него так было: на кого политические не жалуются, тот плохой надзиратель, того раз-два и по шапке… Приструнил Бородулин «политику» крепко, розгами наказывал, человек пять до самоубийства довел. От высшего начальства к каждому празднику благодарность имел и наградные. Его многие предупреждали, что даром это не сойдет. А он только посмеивался… И что же ты думаешь? Перевели его из Алгачей с повышением в Россию, начальником псковской тюрьмы назначили. Там его, как миленького, насквозь и продырявили из револьвера и записку на грудь положили, что убит, дескать, за издевательство над политическими в Алгачах… А от Алгачей до Пскова шесть тысяч верст. Стало быть, длинные руки у них, ежели на таком расстоянии достают… Да и не один он так поплатился. Начальника каторги Метуса недавно в Чите ухлопали. Подошел к нему на вокзале офицер, спросил: «Вы, кажется, полковник Метус?» И только успел тот головой кивнуть, как уже сидело в нем две горошины из стального стручка.
– Неужели офицер убил?
– Какой там, к черту, офицер! Кто-нибудь из революционеров так вырядился.
– И не поймали его?
– Поймаешь таких… Он словно сквозь землю провалился.
Роман был поражен всем услышанным от надзирателей. Он не подозревал, что совсем недалеко от Мунгаловского идет своим чередом такая большая, непонятно грозная жизнь.
Меж тем вода в котле закипела. Роман, жадно слушавший разговор, бросил в котел горсть зеленого чая и щепотку соли. Когда чай напрел, он снял котел с тагана и поставил возле холстины с едой. Прокоп разлил водку и первую кружку поднес Северьяну. Прежде чем принять ее, Северьян покуражился:
– Однако оно и не к чему бы… Да уж ладно, выпью за компанию. – И, не зная, с чем поздравить надзирателей, просто сказал: – Ну, с приездом вас.
Выпив водку, он решил не ввязываться больше в разговоры с надзирателями. Пусть живут, как им любо. Но после третьего подношения не вытерпел и сказал Прокопу, что ходить в надзирателях все-таки не казачье дело.
– Не казачье, говоришь, дело? – заговорил Прокоп. – А по-моему, только казаку и ходить в надзирателях. Он хоть в тюрьме и не служит, а должность у него тоже собачья. Недаром его нагаечка в любом городе посвистывает, и песенки про нее распевают. Не слыхивал?
– Не доводилось.
– Песенка не в бровь, а прямо в глаз… В девятьсот пятом наш полк стоял в Чите на Песчанке. Стыдно теперь вспомнить, что мы делали там… Недаром рабочие на Чите-Первой нашим братом, казаком, ребятишек пугают, – закончил он ожесточенно и вылил в свою чашку остаток водки.
Северьян возразил ему, что там он был не по своей воле, а служба заставила. Прокоп на это сказал, что и в тюрьме он не по своей воле. Когда жрать-пить хочешь, в любую петлю голову сунешь. Но Северьяна его слова не убедили. Он запальчиво крикнул:
– Ну, уж чем каждый день на чужое горе да беду смотреть, так лучше по миру идти!