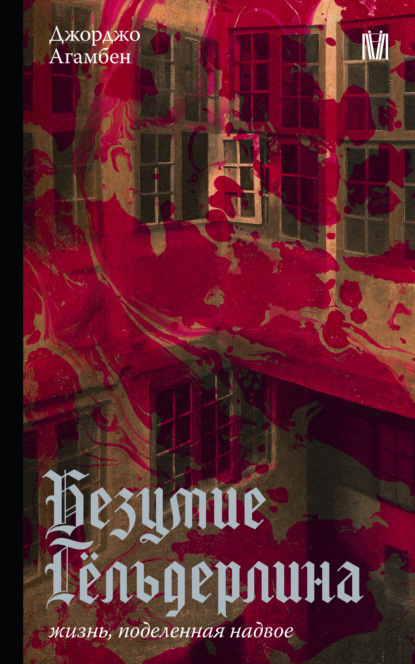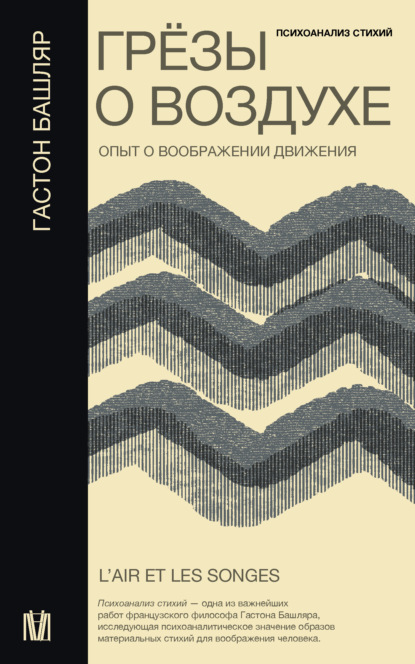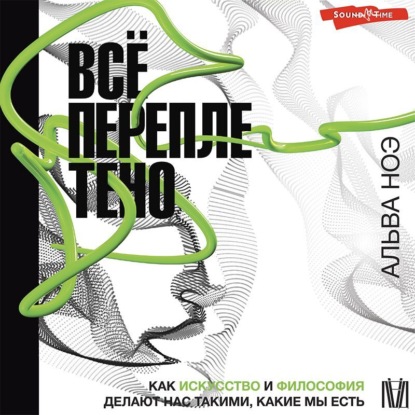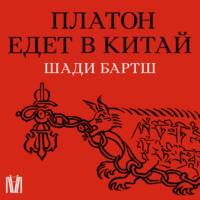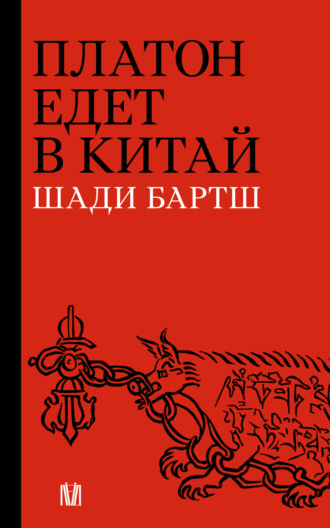
Полная версия
Платон едет в Китай
Однако это еще не все: изучение меняющейся истории восприятия китайцами Платона, Аристотеля, Фукидида и других авторов одновременно позволяет понять, что происходит внутри самого Китая. Подавление демократических принципов, которые запад ценит превыше всего (но поддержать которые в основном не удалось в Ираке и во время «Арабской весны»), укрепило мнение китайцев, что противодействие западным ценностям на площади Тяньаньмэнь было в конечном счете верной политикой. За последние три десятилетия китайское правительство стало активнее утверждать превосходство своей цивилизации над западной, особенно превосходство конфуцианской традиции над западной («рационалистической») традицией. В результате история отношения китайцев к западным текстам дает нам уникально поучительную возможность наблюдать за трансформацией культурной и политической уверенности Китая по мере достижения им статуса конкурента США на мировой арене.
Обращение к западным текстам для поддержки притязаний Китая на цивилизационное превосходство требует от китайских интеллектуалов незаурядной эквилибристики. Главный парадокс, который нужно разрешить, заключается в следующем: если западная классика якобы поддерживает в большей степени китайскую политическую систему, чем западную, то почему мы, запад, как наследники этой традиции, сами не стоим ближе к китайцам? Китайское объяснение строится на том, что со времен Просвещения на западе случился перелом. После этого периода познания (говорят они) запад отошел от классических ценностей добродетели и гражданской ответственности. Конечно, эта траектория начертана широкими мазками и с некоторым пренебрежением сложностями истории и философии. Например, считается, что христианство сыграло минимальную роль в формировании современного запада, да и восточные системы верований, такие как даосизм и буддизм, тоже обделены вниманием, чтобы акцентировать превосходство нового конфуцианского общества социалистического Китая, устремленного в двадцать второй век21.
Китайские ученые из этой группы демонстративно игнорируют ренессансную теорию и практику этики добродетели в политике, возможно потому, что она слишком напоминает конфуцианскую философию, или же из-за того, что она оказалась не слишком успешна22.
III. От «Мастера Ли» к Председателю Ци
Чтобы осознать масштаб перемен, пережитых китайским народом с падением династии Цин (1644–1911), мы должны вспомнить, что до конца XIX века китайская элита считала себя представительницей не только географически центральной «Срединной империи»23, но и культуры, превосходящей культуры всех других наций, которые их соответственно мало интересовали. Так называемый «мандат Неба» гарантировал, что император занимал свой пост по Божественному промыслу; войны и смены династий просто означали, что этот мандат переходил к новому императору «всех земель под Небом» (Поднебесной – тянься)[6]. Эта вера в культурное превосходство Китая пошатнулась во второй половине XIX века, когда китайцы потерпели военное поражение от англичан и французов в «опиумных войнах» 1839–1842 и 1856–1860 годов, а также в результате колонизации крупных прибрежных городов, таких как Шанхай и Гонконг. Последующие попытки внутренних реформ под влиянием контактов с западом способствовали свержению династии Цин в 1911 году – и новому вакууму власти в стране.
Для нас важно то, что первые десятилетия после падения династии Цин гремели споры о том, каким должен быть постдинастический Китай. Свержение Российской империи в 1917 году и последующее унижение Китая европейскими державами, составившими Версальский мирный договор, заставили многих китайских реформаторов и мыслителей искать новые идеи, определяющие содержание гражданства, правительства и национального развития за пределами Китая. Ощущение того, что страна может поучиться у западных держав, повлияло на создание в 1919 году движения «Четвертое мая», участвовавшие в котором студенты и реформаторы призывали к демократическим ценностям, приверженности науке и отказу от старой патриархальной культуры24. Реформаторы династии Цин на рубеже XX века искали ответы в западной политической теории – вплоть до «Политики» Аристотеля, которая цитировалась как аргумент о том, что люди могут полностью реализоваться, только если они являются гражданами государства и политическими акторами25. Как упоминалось ранее, некоторые мыслители даже связывали торжество демократии и науки на западе – две главные цели реформаторов – с причинами не менее древними, чем культура классических Афин.
Однако с приходом к власти Коммунистической партии Китая (КПК) этот интеллектуальный климат сильно изменился. В 1949 году, после десятилетий борьбы между соперничающими военачальниками, Мао и КПК взяли верх и интерес к классическим политическим текстам угас. Только после знаменитых экономических реформ, начатых Дэн Сяопином в конце 1978 года (Гайгэ Кайфан, 改革放放, букв. «реформы и открытость», а также провозглашенный им принцип «не важно, белая кошка или черная – лишь бы ловила мышей»), либерально-демократические тенденции вновь стали достоянием общественности, и потенциальные реформаторы активизировались, предвидя политические реформы и большую свободу прессы[7]. Последовавшие за этим правительственные репрессии вновь повлияли на прочтение античной политической и философской классики. И все же классика вернулась – с некоторыми отличиями. Эти два важнейших момента – движение «Четвертое мая» и нынешний интерес к западной античности – являются темой настоящей книги наряду с более ранней встречей двух миров во время миссии иезуитов в Китае.
Главы книги охватывают период от середины XVI века, когда иезуиты познакомили Китай с классическими текстами, до событий бурного XX века и наших дней. Глава 1, «Иезуиты и провидцы», рассказывает о миссии иезуитов в Китае (особенно в лице Маттео Риччи, или Ли Мадоу в китайской традиции), движении «Четвертое мая» начала XX века и тех годах, которые привели к 4 июня 1989 года. Мы начинаем с иезуитов, поскольку на их примере отлично видно, как можно использовать классические тексты для продвижения своей повестки – в контексте, когда именно западные люди выступают в роли апроприаторов античности. В остальной части книги рассматриваются подходы к классике, которые отражают наблюдающиеся в современном Китае тенденции. Многие ученые, о которых я упоминаю, разделяют веру в состоятельность «древних ценностей» – как конфуцианских, так и платонических, но презирают США. Другие подвергают критике тексты Платона, которые традиционно подкрепляли такие базовые идеи, как гражданство, верховенство закона, демократическое голосование и правление граждан.
В главе 2 рассматриваются примеры прочтения, враждебные «Политике» Аристотеля и афинской демократии. Некоторые авторы превращают «свободного» афинского гражданина в раба своего полиса, а другие называют демократию «суеверием» (китайское слово мисинь, 迷信, примерно означающее «слепую веру»). Есть и такие, для которых настоящая демократия – это Китай. Примеры прокитайской интерпретации вы найдете в главе 3, где рассматривается восприятие знаменитого фрагмента «Государства» Платона: картина «прекрасного города», нарисованная Сократом (иронически? искренне? аллегорически?) для его собеседников. Этот предполагаемый город-государство – Каллиполис – очень беспокоит современных исследователей Платона евгеническим представлением об идеальном обществе, в котором люди делятся на три касты26. Чтобы утвердить эту иерархию, необходима «благородная ложь», объясняющая ее как естественное явление, восходящее к самой матери-земле. В эту ложь будут верить целые поколения, родившиеся уже после создавшего ее выдающегося философа, поддерживая идеологию, которая в значительной степени блокирует переход между классами, и одновременно относя такое общество к категории «справедливых». Реакция китайских идеологов на Каллиполис очень интересна не в последнюю очередь потому, что порой невозможно сказать, не занимаются ли авторы, заявляющие о необходимости «благородной лжи» в политике, разоблачением своего правительства!
Глава 4 посвящена другой дискуссии, связанной с Платоном и Аристотелем: какова роль рациональности в процветании человечества? Изучение рациональности как сравнительного культурного феномена является в некоторых контекстах предметом серьезных научных споров (при это трудность еще и в определении термина «рациональность»)27. Однако некоторые китайские интеллектуалы просто манипулируют этим термином как способом показать, что запад по своей сути страдает от нравственного вакуума. Западная рациональность, по их словам, способствует продвижению технологии в ущерб этике. Она функционирует вне, а не внутри моральных рамок и, таким образом, может целиком служить достижению целей, когда самый эффективный способ добиться чего-либо является наилучшим. Эта западная «инструментальная» рациональность часто связывается с Кантом, но также и с Платоном – в конце концов, именно Платон с его видением рационального города, управляемого самыми рациональными людьми, легко может послужить примером. Интересно, что китайцы осуждают запад, используя западную критику, во многом опираясь в терминологии и взглядах на немецкого социалиста Макса Вебера. Вслед за другими европейскими мыслителями некоторые китайские ученые практически готовы заявить, что Платон является причиной холокоста.
В главе 5 речь идет о бешеной популярности (которая начала спадать лишь недавно) консервативного политического мыслителя Лео Штрауса среди китайских мыслителей, и задается вопрос о том, как и почему возник этот феномен. Отчасти ответ связан со взглядами самого Штрауса на ценность классических текстов, ведь он придавал им политическое и философское значение, по сути, in aeternum (это очень характерный для Китая подход к традиции), одновременно очерняя текущий момент развития западной цивилизации. Не менее важно и то, что Штраус возвышал роль философа до уровня выразителя загадочных истин, необходимых для поддержания статуса-кво (что делало его политически значимым). Кроме того, он предложил модель интерпретации философских текстов в поддержку политических и этических убеждений. И, наконец, Штрауса также интересовали пределы разума: как выразилась Леора Батницки, Штрауса волновали «философские, теологические и политические последствия того, что он считал завышенными претензиями современной философии на самодостаточность разума»28. Постановку этой проблемы, считал Штраус, можно найти у таких философов, как Платон, Маймонид и Спиноза (если искать эзотерические послания, скрытые от взгляда широкой публики).
Глава 6 посвящена расцвету конфуцианского в своей основе национализма Китая за последние двадцать лет, далеко отстоящего от презрения к конфуцианским текстам на заре существования КПК, когда Мао осуждал старого мудреца и его учение. Конфуцианство теперь подпирает новый национализм, наделяя его интеллектуальной и этической историей; некоторые общественные деятели даже увязывают конфуцианство с проблемами экологии и устойчивого развития. Тот факт, что Ху Цзиньтао подчеркивал конфуцианскую ценность гармонии (хэсе), а Си Цзиньпин сегодня говорит о важности «гармоничного общества будущего», позволяет правительству провозглашать новую внутреннюю и внешнюю политику, резко контрастирующую с западной «агрессией». Стремясь представить эти конфуцианские ценности как универсалии, интеллектуалы обращаются к интерпретациям Конфуция, обнаруживающим глубокие параллели с темами «Государства» Платона, особенно учитывая то, что «гармония» и «справедливость» сведены в одно понятие. Кроме того, некой поверхностной параллелью выглядит тема музыкальной гармонии и ее взаимосвязи с эмоциями. Таким образом, Платон и Конфуций поведут нас вперед в новом мировом порядке (с доминирующим Китаем). Однако из них двоих именно Конфуций по-прежнему считается лучшим мыслителем. На трех недавних конференциях, посвященных Сократу и Конфуцию, китайцы утверждали, что конфуцианская гармония превосходит сократовский антагонизм, а отказ последнего от традиций стал предметом критики, как и «отречение» современного запада от иерархического и якобы меритократического Каллиполиса, идея о котором лежит в основе западной традиции политической мысли29.
Учитывая потенциальную ценность классических текстов для китайской идеологии и их подчинение делу китайского национализма, в китайских академических кругах существует конфликт по поводу того, как следует поступать с этими текстами. В этой битве несколько громогласных публичных интеллектуалов объединились против в основном аполитичных профессоров30. В интервью 2015 года десять китайских классицистов с иностранным образованием, в том числе такие уважаемые деятели, как Хуан Ян (греческая история, Университет Фудань), Не Миньли (греческая философия, Китайский народный университет) и Лю Цзиньюй (римская история, Университет ДеПау), открыто заявили о желательности официальной институционализации исследования этих классических текстов на университетских кафедрах, в сочетании со строгой языковой подготовкой и изучением западной историографии31. Китайские классицисты выразили готовность сотрудничать и поддерживать диалог с современными западными классицистами. Они также говорили о дистанции между ними и другими, более видными фигурами, открыто заявляющими о своей прокитайской позиции, такими как Гань Ян и Лю Сяофэн32. Эта последняя группа стремится к тому, чтобы исследование классиков (1) учитывало китайскую традицию наряду с западной и (2) имело непосредственное отношение к современной китайской политике. Гань и Лю также играют важную роль как руководители Китайской ассоциации сравнительных классических исследований (Чжунго бицзяо гудяньсюэ сюэхуэй – основана в 2009 году совместно шестью университетами), которая открыто разделяет мнение авторов редакционных страниц журнала «Гудянь Яньцзю» – в конечном счете изучение западной классики должно служить общему благу Китая33.
Как я отмечала выше, целью данного исследования не является критика прочтения или апроприации (как бы мы ее ни определяли) классических западных текстов упоминаемыми в нем людьми34. Меня интересует, как идеологии формируют восприятие (этот вопрос имеет отношение и к развернувшимся в настоящее время в США дебатам о ценности классиков и о том, могут ли они что-то сказать кому-либо, кроме провалившейся элиты). Тексты, во многом сформировавшие западную философию и политическую мысль, могут служить зеркалом меняющихся настроений Китая и США на мировой арене в прошлом, настоящем и, возможно, будущем. Надеюсь, что понимание этого поможет нам сделать шаг вперед от поверхностных политических нарративов и рассуждений о добродетелях, озвучиваемых мыслителями и теоретиками в обеих странах.
1. Иезуиты и провидцы
Мы считаем, что только господин Наука и господин Демократия могут даровать Китаю спасение от всякой тьмы, будь то политической, нравственной, интеллектуальной или духовной.
Чэнь Дусю 陈独秀Пытаясь разобраться в чрезвычайной сложности современного Китая, мы должны остановиться на самом исходе XX века и вернуться на четыреста лет назад – к моменту прибытия в Китай миссии иезуитов. Задолго до «неравноправных договоров», заключенных после опиумных войн XIX века, когда Китаю, наконец, пришлось открыться для торговли с западом, группа решительных, смелых и, возможно, безрассудных иезуитов из Португалии, Испании и Италии отправилась в плавание к этой незнакомой стране. Они привезли с собой догматы католицизма, избранные нехристианские тексты и некоторые чудеса западной науки. Пережившие это путешествие в итоге обосновались в Макао, и уже оттуда постарались привлечь внимание императора Ваньли1. В 1601 году Маттео Риччи, итальянский иезуит из Рима, наконец получил приглашение войти в Запретный город в Пекине; император хотел получить от него знания об астрономии и календарной науке2. К тому времени Риччи и остальные научились читать на классическом китайском и говорить на северокитайском, официальном наречии. Они также поняли, что в их интересах одеваться как ученые-конфуцианцы, а не как скромные буддисты, и соответственно изменили свои облик и манеру поведения. При дворе иезуиты теперь имели доступ в элитные круги придворных ученых. Священники вступали в дискуссии с конфуцианскими философами, излагая свои взгляды как католики. Они также отправляли на запад новости о Китае, благодаря чему можно говорить о некотором росте интереса европейцев к этому странному отражению их монархий3.
В конечном итоге дела у бедных иезуитов сложились плохо. После бурной смены династии Мин на династию Цин они попали в немилость к императору; многие были сосланы или убиты, а их воззвания к папе римскому осталась без ответа4. Некоторым удалось быстро адаптироваться к новой политической системе. Согласно одному историческому анекдоту, немецкий иезуит Иоганн Адам Шалль фон Белль (1591–1666) и другие повесили на своем доме табличку с надписью «Это резиденция аполитичных ученых, сведущих также в изготовлении пушек», которая якобы спасла Шалль фон Беллю жизнь5. Позже ему повезло еще раз: добившись аудиенции у недавно назначенного императора Шуньчжи, Шалль фон Белль стал доверенным советником и бюрократом и способствовал продолжению миссии иезуитов вплоть до своего (уже не столь удачного) смертного приговора в 1664 году. К тому времени иезуиты (между которыми возникли серьезные разногласия) пришли к концу своего влияния при китайском дворе – как по численности, так и по духу6.
I. Миссионеры с греческими чертами
Вскоре после начала миссии иезуитов прибывшие издалека чужестранцы обнаружили, что император и его двор с наибольшим энтузиазмом принимают научные тексты и приборы, которые они привезли с собой: трактаты, такие как «Начала» Евклида; собрание древних и современных им научных текстов по гидравлике, картографии, летоисчислению, ботанике и астрономии, а также западные часы и музыкальные инструменты. Маттео Риччи (Ли Мадоу), обладавший обширными познаниями и лингвистическими способностями, быстро адаптировался к культуре двора Ваньли, где делился своими знаниями, завоевывая расположение ко всей миссии иезуитов7. Научные материалы оказались хорошим подспорьем для иезуитов в деле обращения людей в свою веру: эти тексты свидетельствовали о том, что Европа с ее христианским мировоззрением находится на верном пути. Чем еще можно было объяснить мастерство европейцев в астрономии, изготовлении часов, картографии и многом другом? Как выразился иезуит Алвару Семеду (1586–1658), «[наш новообращенный Лео Ли Чжичжао] одновременно изучал расположение царств мира сего и законы Царства Иисуса Христа»8. В 1605 году иезуиты даже приобрели землю, на которой вскоре построили церковь – первое в Китае религиозное сооружение в европейском стиле.
Но камнем преткновения для иезуитов стало то, что китайская элита не проявляла большого интереса к догматам католицизма. Китайские ученые считали себя мудрее этой кучки варваров и опирались на многовековые традиции9. Постепенно миссионеры поняли, что им нужно делать. Они уже стали практически настоящими вельможами, облачились в одежды ученых-конфуцианцев (а не простых буддистов) и читали труды Конфуция, чтобы вовлечь придворных китайских ученых в то, что последние могли бы счесть глубокомысленной беседой. Затем иезуиты научились заимствовать конфуцианскую терминологию и концепции, чтобы «переводить» свои слова в знакомые двору предметы и категории. И, конечно, иезуитам приходилось подвергать себя самоцензуре. По крайней мере, Риччи понимал, что некоторые основные доктринальные элементы католицизма, скорее всего, помешали бы обращению китайцев в христианство, поскольку показались бы им слишком фантастичными, – например непорочное зачатие Иисуса и Его «низкая» смерть на Кресте. Поэтому многие иезуиты приуменьшали или опускали эту часть катехизиса10. В конце концов иезуиты поняли, что им придется нарушать собственные правила и позволять новообращенным продолжать их ритуальные практики, например поклонение предкам, которые монахи объяснили Ватикану как социальную и политическую деятельность, а не соблюдение религиозного культа11.
Иезуиты сделали еще один шаг, поразительный по своей смелости. Риччи, Альфонсо Ваньони и Алессандро Валиньяно придумали способ сделать христианство более приемлемым для конфуцианцев: они пропустили его через сито дохристианского запада, в частности через Аристотеля и стоические учения бывшего греческого раба Эпиктета (ок. 50–135 года н. э.). Иезуиты, отлично знавшие, как использовать классическую философию в христианском богословии, понимали, что общая для греческих философов немонотеистическая этика ближе к конфуцианской традиции, чем к христианству, и, следовательно, полезнее для достижения долгосрочных целей иезуитов. Таким образом, они «транслировали» греческую философию китайцам, негласно подав ее как христианство12. При этом они тщательно избегали явно неконфуцианских аспектов философии стоиков, а также тех ее частей, которые противоречили христианству. Так, они не подчеркивали чуждый конфуцианцам акцент стоиков на роли рациональности в воле, а чуждый христианам стоический принцип отсутствия загробной жизни вовсе исчез из их учения13. Но, как понимал Риччи, между стоицизмом и конфуцианством имелись и реальные точки соприкосновения – точки, которые при внимательном рассмотрении могли свидетельствовать о том, что двум традициям свойственны некоторые общие убеждения. Даже если история о бедном и смиренном Сыне Божьем и творимых Им чудесах не имела аналогов в конфуцианстве, учения о самообладании, благом провидении, обманчивых благах и надлежащих действиях по отношению к другим были знакомы китайскому двору14. Как отмечает Кристофер Спалатин, «следуя модели иезуитского гуманистического образования эпохи Возрождения, в которой языческая нравственная философия стоицизма сыграла роль введения в христианство, Риччи пытался использовать языческую нравственную философию конфуцианства как подготовку к христианству во всей его полноте»15.
Риччи проявил себя как выдающийся мастер в деле представления стоицизма как разновидности христианства. Он понимал, что стоицизм достаточно гибок, чтобы заполнить конфуцианский шаблон, и в то же время имеет общие с христианством нравственные (если не метафизические) предписания. Поэтому Риччи буквально внедрял в Китае учение Эпиктета – в частности, его «Краткое руководство к нравственной жизни», или «Энхиридион». Если бы четыре книги философских рассуждений стоиков уже были адаптированы и использовались иезуитами в их образовательном процессе, то Риччи не составило бы большого труда задействовать основные учения Эпиктета: важность понимания разницы между тем, чем мы можем управлять (мысль, порыв, вера), и тем, чем не можем (богатство, власть, здоровье); признание того, что эмоции основаны на ложных суждениях; и представление о том, что человек, природа и (благосклонная) Вселенная рациональны и дополняют друг друга [коэкстенсивны]16. Эпиктет призывал к доброжелательности по отношению к окружающим, а также самоанализу и самокритике. Он подчеркивал, что люди должны видеть не только внешние проявления «блага», но также понимать, к чему на самом деле сводится их истинная ценность (автоматическая симпатия к красивой девушке, по Эпиктету, не является благой реакцией, в то время как сложный опыт дает шанс повысить эмоциональную устойчивость).
В 1605 году Риччи опубликовал книгу под названием «Двадцать пять речений» (Эршиу Янь, 二十五言), представлявшую собой измененную и сокращенную версию «Руководства» Эпиктета. Вероятно, это была его самая популярная работа о «христианской доктрине», хотя Риччи и признавал во вступлении, что он «говорил о добродетели немного стоически»17. Не вполне очевидным было место этих «языческих» элементов в его прозелитизме18. Возможно, Риччи не счел необходимым это прояснить: в XVI веке римский стоик Сенека все еще считался обращенным христианином, а его письма к Св. Павлу – подлинными, поэтому стоики вполне могли считаться протохристианами19. И, как уже говорилось ранее, иезуитское образование включало классические тексты; иезуиты следовали учениям святого Фомы в теологии и Аристотеля в логике, натурфилософии, этике и метафизике20. Принимая решение о такой «аккомодации» к конфуцианству, Риччи опирался на свое убеждение, что стоицизм и конфуцианство – одинаково ценные этические системы, также связанные отсутствием в них фигуры Иисуса Христа21. Как отмечают Гудман и Графтон, «В частности, иезуиты были, вероятно, лучшими в Европе специалистами по адаптации текстов для передачи таких идей и служения таким целям, которых их авторы никогда не предполагали»22. «Правки» Риччи не имели целью ввести китайцев в заблуждение; как человек, обладавший знанием о Христе, Риччи просто занимался необходимой «интерпретацией», призванной сделать античность сообразной как Китаю, так и христианскому миру.