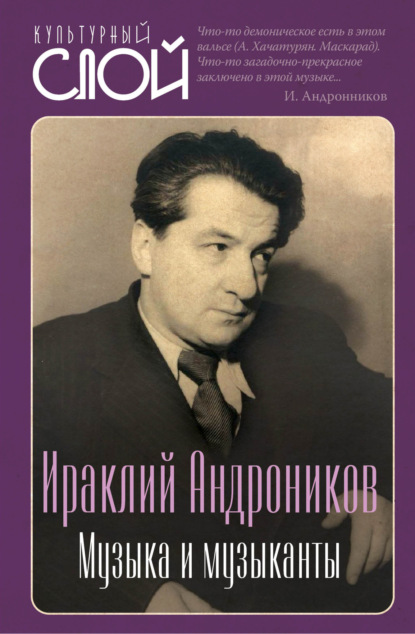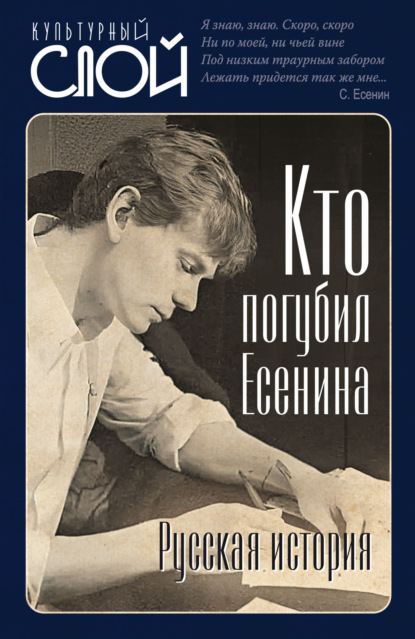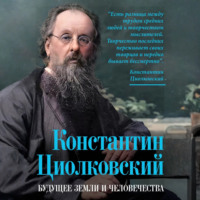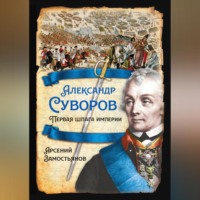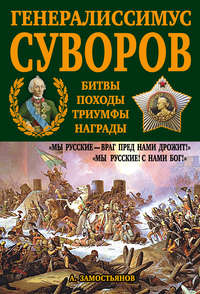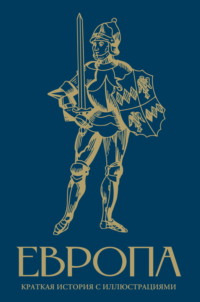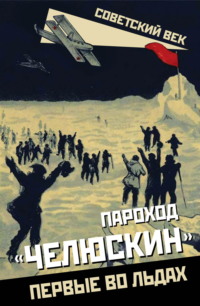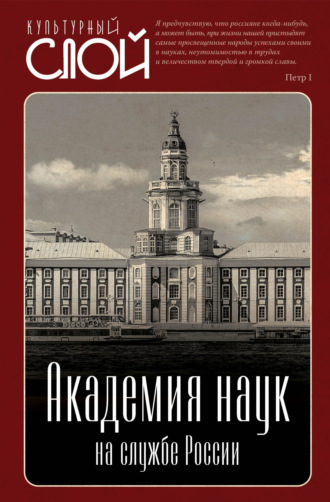
Полная версия
Академия наук на службе России
3. Хотя из вышеписанных уже ясно видеть можно, что при сочинении Академического регламента и стата мало смотрено на достохвальные учреждения академий и университетов в чужестранных государствах, однако еще немало других есть сего доказательств.
1) В европейских государствах университеты разделяются на 4 факультета: на богословский, юридический, медицинский, философский. Здесь, хотя богословский оставляется Святейшему Синоду, однако прочих трех порядочное учреждение необходимо нужно: 1) для обучения студентов прав вообще, так же европейских и российских, для умножения в России российских докторов и хирургов, которых очень мало, для приумножения прочих ученых, которые в философском факультете заключаются; 2) для порядочного произведения в градусы, чтобы произведенный в Санктпетербургском университете порядочным и обыкновенным у других образом, например доктор медицины, признаваем был за доктора во всех государствах, 3) чтобы в трудных судебных, медицинских и других делах можно было в другие команды из Академии требовать по факультетам мнения, как то обыкновенно в других государствах трудные судебные, медицинские и другие дела по академиям и университетам для совета сообщаются. О сем нужном и полезном учреждении в академическом штате и регламенте ничего не упомянуто.
2) В университетах ректорам как велика власть дается, так и недолго поручается. Ректор имеет власть живота и смерти над студентами и на всякую полгода переменяется по избранию. Здесь должно или имя оное оставить или учинить по иностранному, однако из сих ни одного не сделано. Я предложу о сем в другой части, что и с иностранными обыкновениями сходствовать и российским узаконениям не противно будет.
3) О произвождении в градусы, о публичных экзерцициях студентов и о лекциях профессорских в регламенте ничего не предписано, что, однако, необходимо нужно и, в других государствах происходя порядочно, великое ободрение наукам и честь приносит.
4) Академический корпус составляется, 1) ради того чтобы изобретать новые вещи, 2) чтобы об них рассуждать вместе с общим согласием. Но рассуждения быть общие не могут, ежели о достоинстве изобретения один только знание имеет. Например, во всем собрании только один ботаник, следовательно, что он ни предложит, то должно рассудить за благо, как бы оно худо ни было; затем что один только ботанику разумеет. Следовательно, и собрания академиков тщетны. Итак, в других академиях каждая профессия имеет в одной науке двух или трех искусных, чего в новом регламенте отнюдь не упомянуто и ни самого дела, ниже примеров в рассуждение не принято.
4. Штат академический хотя сам положенной суммы не превосходит, однако для недостаточных узаконений и для данной великой свободы оные переменять по произволению к тому дали причину, что не токмо без нужды набранными людьми сумма отягощена, а годных положенного числа нет, но и старые долги не выплачены и новые прирастают. Что ж до прибыли надлежит, которая от художеств, а особливо до Типографии надлежит, о том, как умножить, расположить и получать великую пользу, нет в регламенте никаких учреждений. Коль великая государственная от сего прибыль, польза и слава оставлена в небрежении, о том в учреждении Академии Художеств. Имея одну Типографию во всем государстве, могло бы много остаться суммы в 7 лет: хотя бы по 10 000, было б уж 70 000.
5. Для неумедлительного наставления учащих и учащихся должно быть надлежащее расположение в Гимназии школ и классов, довольное и порядочное число учителей и множество школников, частые экзамены. В Университете на всякую полгода профессорские лекции печатным листом объявлять и оные предлагать действительно; студентам иметь на каждой месяц публичные диспуты и проч. по примеру европейских гимназий и университетов.
1) Но при Академии Наук, в Гимназии верхних классов учителей уже много лет не было, а когда и были, то почти недостойные.
2) Напротив того, в нижних классах учители за излишком, а почти все негодные, у которых школьники время теряют.
3) Некоторые учители приняты из милости и, получая немалое жалованье, никого в Гимназии не обучают, а живут при детях знатных господ.
4) Многие учители были и ныне есть в латинской школе, которые российского языка не искусны и учат школьников по латыни с немецкого. Для того принуждены они прежде учиться по-немецки. В чем ради беспорядка потеряв много лет, к латинскому языку уже устарев приступают и затем оного не выучаются.
5) Всего недостатка причина в том состоит, что в Академическом регламенте о гимназическом учреждении и поведениях ничего не упомянуто.
6) Университетский регламент не сочинен, хотя много на то трудов профессорских и времени положено.
Против 6 основания
Для дружбы, для повелительства, для послушания, должен служить: 1) всегда взаимно соответствующие и общими силами производимые труды; 2) известные каждому ранги и команды; 3) члены и другие служители, всяк в своем деле искусные.
В Академическом регламенте положено, что профессору одной профессии нет дела до другой. Сей пункт разрушает общество академических конференций: 1) в советах и рассуждениях, 2) в трудах тех профессоров, которые больше, нежели одну науку, знают; ибо ежели астроном знает физику или химию или ботанику, не должен сочинять диссертаций физических, химических или ботанических, хотя что новое найдет, затем что по сему пункту могут по зависти тех наук профессоры спорить, отчего ссоры и препятствия в распространении наук; 3) малое число профессоров: по одному в науке. Что скажет, то и ладно, как бы худо не было.
Александр Андреев
Ломоносов и астрономические экспедиции Академии наук
В научной жизни Европы в 1761 г. прохождение Венеры через Солнце явилось событием, привлекшим к себе большое внимание. К наблюдениям этого редкого явления готовились заранее Французская Академия Наук и Английское Королевское Общество. Об этой подготовке сообщал конференц-секретарю Петербургской Академии Наук Г. Ф. Миллеру почетный член ее (с 1756 г.) аббат Лакайль (de la Caille): в письме от 29 ноября 1759 г., полученном Миллером 3 января 1760 г., он уведомлял, что член Парижской Академии астроном Жантиль (1725–1792) предполагает ехать в Ост-Индию для наблюдения прохождения Венеры через Солнце. Находя полезным и необходимым для России принять участие в деле, которому научные круги Европы придавали большое значение, Миллер сообщил о письме Лакайля президенту Академии Наук графу К. Г. Разумовскому. Последний, вполне одобряя мысль Миллера, предполагал вначале отправить для наблюдения в мае 1761 г. астронома Академии А. Н. Гришова, но тяжкая болезнь не позволяла тому принять поручение. Для наблюдений в России прохождения Венеры через Солнце Гришов советовал выписать кого-либо из французских астрономов. Отвечая Лакайлю, Миллер сообщал 5 марта 1760 г., что Петербургская Академия готовится к наблюдениям, но у нее нет опытных астрономов. В новом письме Лакайль отвечал, что астрономы могут быть присланы из Франции, если русское правительство обратится к французскому через посланника последнего при русском дворе; в том же письме он называл Шаппа д’Отероша, изъявлявшего готовность ехать в Россию.
Предложение Лакайля было сообщено Миллером 26 мая 1760 г. Конференции, и академики одобрили приглашение астронома из Франции. «И тогда я, – писал позднее в феврале 1761 г. Миллер, – оное письмо оригинальное сообщил Канцелярии советнику г. Тауберту, который обще с г. Эпинусом старался исходатайствовать позволение о выписывании астрономов из Парижа, – токмо как оное позволение не воспоследовало, то в том деле больше ничего не учинено, и от меня ни к кому об отправлении сюда астрономов не писано».

Михаил Ломоносов у «ночезрительной трубы»
Между тем в Петербурге был получен очередной том «Мемуаров» Французской Академии Наук, в котором, между прочим, сообщалось, что Парижская Академия с своей стороны отправляет в Сибирь для наблюдения прохождения Венеры уже упомянутого выше аббата Шаппа д’Отероша.
Это известие произвело большое впечатление. 23 октября 1760 г. президент Академии Наук Разумовский писал в академическую Канцелярию: «Намерение Французской Академии [послать в Сибирь Шаппа д’Отероша] показалось мне для Санктпетербургской ее императорского величества Академии весьма предосудительно. Чего ради не меньше совершенная польза в мореплавании и других по астрономии объяснениях, как честь и слава Академии Санктпетербургской требует того, чтоб сие произвести дело самим без помочи французских ученых», Президент находил необходимым отправить во что бы то ни стало для наблюдения прохождения Венеры две экспедиции и в одну из них назначить молодого тогда русского астронома С. Я. Румовского (1734–1812), ученика Л. Эйлера, очень высоко ценимого своим учителем; с 1753 г. Румовский состоял адъюнктом Академии и к 1760 г. был уже автором нескольких трудов по математике и астрономии. Письмо Разумовского заканчивалось следующими словами: «Что же принадлежит до вспоможения к сему предприятию, то послать немедленно о том доношение в Правительствующий Сенат. А между тем господа члены Канцелярии и партикулярно имеют просить господ сенаторов моим именем, чтоб сие полезное предприятие втуне оставлено не было».
Письмо президента было заслушано в заседании Конференции Академии 13 ноября; в обсуждении плана экспедиции приняли деятельное участие Эпинус и Миллер; Ломоносов на этом заседании не присутствовал.
Но он тогда же откликнулся на распоряжение президента: сохранилась его записка к академику Я. Я. Штелину, состоявшему вместе с ним советником в Канцелярии Академии Наук:
«Мое мнение относительно двух экспедиций в Сибирь есть, что в них должны быть два обсерватора: Попов и Румовский. Хотя у меня есть важная причина сомневаться, чтобы астрономия была такая легкая наука, которой такой человек, как Румовский, мог бы обучиться в полгода, и притом так, чтобы мог быть употреблен при редчайших и трудных наблюдениях. Не худо бы ему было придать товарища, и даже старшаго. Впрочем, я подам мнение письменно».
Написал ли Ломоносов мнение, остается неизвестным, но он принял деятельное участие в выполнении распоряжения президента.
Биографы Ломоносова и историки Академии Наук, рассказывая об участии Академии Наук в наблюдениях прохождения Венеры через Солнце в 1761 г., пока слабо осветили роль Ломоносова в этом научном предприятии, когда Петербургская Академия впервые за 35 лет своего существования выступала уже наряду с Парижской Академией Наук и Английским Королевским Обществом.
Распоряжение президента от 23 октября 1760 г. о немедленной посылке Академией в Сенат доношения об экспедициях, возможно, подсказанное ему академиком Эпинусом, было выполнено через месяц: 27 ноября 1760 г. за подписями советников Канцелярии Академии Наук М. В. Ломоносова, И. И. Тауберта и Я. Я. Штелина было отправлено в Сенат доношение о необходимости посылки в Сибирь двух экспедиций во главе с «обсерваторами» профессором Н. И. Поповым и адъюнктом С. Я. Румовским (см. прилож. 1).
Доношение Академии поступило в Сенат 27 ноября, когда Сенат обсуждал поставленный Академией в доношении от 23 октября 1760 г. вопрос о посылке двух географических экспедиций с целью собирания данных для географического описания России; новое доношение Академии о посылке еще двух новых экспедиций, причем в обоих случаях в числе обсерваторов намечался проф. Попов, естественно потребовало объяснений, и хотя Сенат утвердил предложение Академии о посылке двух географических экспедиций, но по поводу двух новых астрономических экспедиций пожелал, видимо, получить дополнительные данные; ввиду этого на заседание Сената 11 декабря был приглашен Ломоносов, в присутствии которого и состоялось решение о посылке двух астрономических экспедиций в Сибирь…
В фонде Сената, помимо протокола Сената с решением о посылке двух астрономических экспедиций, оказалось также особое дело, которое Канцелярия Сената озаглавила: «По словесному Академии Наук профессора коллежского советника Ломоносова и по челобитной профессора Попова 1760 г. декабря 11 о чине надворного советника».
Дело начинается (л. 436) запиской, написанной рукою, вероятно, одного из канцеляристов Сената; в ней кратко повторено содержание пунктов доношения Академии Наук от 27 ноября 1760 г. (см. прилож. 2, пункты 1–3), а в заключении было написано: «4. Астрономии профессору господину Попову для ободрения его и российских ученых людей и за его десятилетнюю службу наградить произведением в надворные советники»; за этой запиской в деле имеется также челобитная Попова, где он дает сведения о себе. Из сопоставления этой записки с доношением Академии 27 ноября 1760 г. очевидно, что, будучи приглашен на заседание Сената 11 декабря, Ломоносов хлопотал о благоприятном разрешении вопроса об астрономических экспедициях: доношение о них было не только подписано, но, вероятно, и составлено им, а в дополнение к нему Ломоносов лично просил о призводстве Попова в чин надворного советника. Хлопоты Ломоносова в Сенате увенчались полным успехом: было решено послать две экспедиции, и одного руководителя экспедиций, за которого просил Ломоносов, проф. Попова, Сенат произвел в надворные советники.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.