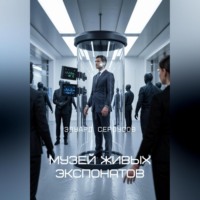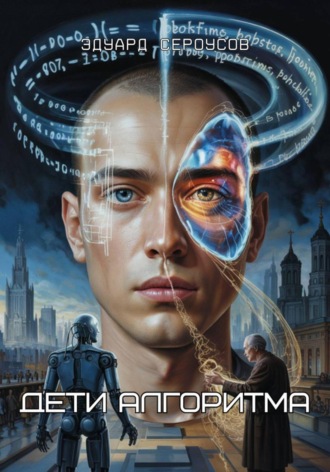
Полная версия
Дети алгоритма

Эдуард Сероусов
Дети алгоритма
Глава 1: Последний учитель
Александр Петрович Соколов задержал взгляд на вереснике за окном. Фиолетовые цветы, не дождавшись полной силы сентябрьского солнца, уже раскрыли свои бутоны. «Как все торопятся», – подумал он, поправляя старомодный галстук. В шестьдесят семь лет Александр Петрович предпочитал одеваться так, как одевались учителя его юности: строгий костюм, отутюженная рубашка, потемневшая от времени заколка на галстуке с выцветшим янтарём.
Сегодня был особенный день – последний рабочий день Александра Петровича в школе №147 имени А.С. Пушкина. Школа, в которой он проработал сорок два года, переходила на новую систему образования – полностью автоматизированную, без участия живых преподавателей.
– Александр Петрович, вас ждут в актовом зале, – раздался механический голос из динамика на стене. – Церемония прощания начнётся через шесть минут.
– Спасибо, иду, – ответил он, хотя понимал, что ИИ-администратор не нуждается в его ответе.
Он в последний раз окинул взглядом кабинет литературы. Настоящие бумажные книги уже упаковали и отправили в архив – теперь они считались музейными экспонатами, а не учебными пособиями. Интерактивные стены, способные мгновенно воспроизвести любой текст, любую информацию, сделали библиотеки и учебники ненужными. «И учителей тоже», – с горечью подумал Александр Петрович.
На стене ещё висел портрет Пушкина – единственное, что Александр Петрович забрал бы с собой, если бы ему разрешили. Но директор школы, или, как теперь принято было говорить, «координатор образовательного процесса», объяснил, что все оригинальные предметы должны остаться в школе для создания «аутентичной исторической атмосферы».
Он вышел из кабинета, не оглядываясь. В пустом коридоре раздавался только звук его шагов. Школа казалась безлюдной, хотя на самом деле в ней находилось около восьмисот учеников и два десятка преподавателей. Просто теперь уроки проводились в виртуальных классах – дети сидели в изолированных кабинках, надев нейроинтерфейсы, а учителя контролировали процесс из своих домов. В следующем году и учителей не станет – их заменит АИ-педагог.
Актовый зал был полон. Александр Петрович с удивлением отметил, что собрались не только преподаватели и администрация, но и ученики – все три старших класса, с которыми он работал последние годы. Они сидели ровными рядами, с одинаково прямыми спинами и внимательными лицами.
– А вот и наш виновник торжества! – радостно объявила Наталья Викторовна, нынешний координатор. – Александр Петрович, проходите, садитесь в центр.
Она была одной из немногих сотрудников школы, которые не были «детьми алгоритма». В свои пятьдесят пять она представляла последнее поколение людей, воспитанных людьми, а не искусственным интеллектом.
Церемония началась с видеопрезентации о вкладе Александра Петровича в образовательный процесс. Сухая статистика: количество проведённых уроков, процент успеваемости, средний балл его учеников на государственных экзаменах. Ни слова о том, как он зачитывался стихами вместе с детьми, как организовывал литературные вечера, как помогал им писать первые, неуклюжие, но искренние строки собственных стихов.
– И теперь я передаю слово нашим ученикам, – объявила Наталья Викторовна. – Антон-42, пожалуйста.
К трибуне вышел высокий юноша с правильными чертами лица и идеальной осанкой. Антон был одним из «детей алгоритма» первого поколения – тех, кто с младенчества воспитывался искусственным интеллектом.
– Уважаемый Александр Петрович, – начал он ровным голосом, – от лица учеников класса 11-А я хотел бы выразить благодарность за ваш труд. Согласно нашим расчётам, эффективность усвоения материала на ваших уроках составляла 84%, что на 12% выше среднего показателя среди преподавателей гуманитарного цикла вашего поколения.
Александр Петрович слабо улыбнулся. Он уже привык к такому подходу, но до сих пор не мог смириться с ним.
– Мы высоко ценим вашу попытку передать эмоциональное восприятие литературы, хотя, должен отметить, что современная нейропедагогика доказала неэффективность субъективного подхода к анализу текстов. Тем не менее, ваша деятельность имеет историческую ценность как пример традиционного образовательного процесса.
Речь Антона была безупречна с точки зрения структуры и содержания, но в ней не было ни тепла, ни искренности. Так же ровно и бесстрастно могли говорить и остальные «дети алгоритма» – его одноклассники.
После церемонии Александру Петровичу вручили памятный сертификат и небольшой кристалл с лазерной гравировкой – традиционный подарок уходящим на пенсию сотрудникам. Наталья Викторовна обняла его, шепнув: «Мы будем скучать». Дети пожали ему руку – все абсолютно одинаковым, выверенным движением.
Но вместо того, чтобы отправиться домой, Александр Петрович попросил разрешения провести последний урок.
– Но ведь расписание уже сформировано, – растерялась Наталья Викторовна. – Система…
– Один урок, Наталья. Последний. Не внесённый в систему, – его голос звучал мягко, но настойчиво.
Она колебалась, но всё же кивнула.
– Только один час, Александр Петрович. И без записи в образовательную сеть.
– Без записи, – согласился он. – Это будет… наш секрет.
Кабинет литературы выглядел пустым без книжных шкафов, но Александр Петрович принёс с собой то, что осталось его собственностью – томик стихов Пушкина, изданный ещё в 2010-х. Книгу с настоящими бумажными страницами, пожелтевшими от времени, с его собственными карандашными пометками.
Ученики 11-А класса расселись за интерактивными партами. Эти подростки, родившиеся в начале 2050-х, принадлежали к первому полностью «оптимизированному» поколению. Их родители, столкнувшись с экономическим и демографическим кризисом 2030-х, добровольно передали детей в государственные «модули развития», где воспитанием занимался искусственный интеллект.
– Сегодня, – начал Александр Петрович, – я хотел бы поговорить с вами о смысле поэзии. О том, зачем люди веками писали и читали стихи.
– Это известно, – отозвалась светловолосая девушка с первой парты, Ирина-12. – Ритмически организованная речь легче запоминается и эффективнее передаёт информацию в дописьменных обществах.
– Это одна из функций поэзии, – согласился Александр Петрович. – Но далеко не единственная и, пожалуй, не главная. Позвольте, я прочту вам одно из самых известных стихотворений Пушкина.
Он открыл книгу и начал читать, стараясь вложить в слова всю свою душу:
– Я вас любил: любовь ещё, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем…
Когда он закончил, в классе воцарилась тишина. Ученики смотрели на него с вежливым вниманием, ожидая продолжения урока.
– Что вы чувствуете, когда слышите эти строки? – спросил Александр Петрович.
– Чувствуем? – переспросил Антон-42. – Мы анализируем, а не чувствуем, Александр Петрович. Этот текст выражает ситуацию односторонней романтической привязанности с последующим добровольным отказом субъекта от продолжения отношений ради благополучия объекта привязанности.
– Анализ верный, – кивнул Александр Петрович. – Но дело в том, что стихи нужно не только анализировать, но и чувствовать. Они должны вызывать эмоциональный отклик.
– Эмоциональный отклик неэффективен при анализе информации, – заметил другой ученик, Максим-28. – Он искажает объективное восприятие.
– А что, если цель поэзии – не передача объективной информации? – Александр Петрович обвёл взглядом класс. – Что, если её цель – передать субъективное переживание, сделать его общим, разделённым между людьми?
Ученики переглянулись. Такая концепция была им незнакома и, похоже, не укладывалась в их систему мышления.
– Вы говорите о передаче эмоциональных состояний? – уточнила Ирина-12. – Но это нерационально. Эмоции индивидуальны и не поддаются точной кодификации.
– Именно! – воскликнул Александр Петрович с таким жаром, что некоторые ученики слегка отпрянули. – Но в этом и сила искусства – оно делает возможным невозможное. Позволяет одному человеку почувствовать то, что чувствует другой. Вот, попробуйте…
Он достал из портфеля ещё одну книгу.
– Это Анна Ахматова, стихотворение «Сжала руки под тёмной вуалью…». Прочтите его, пожалуйста, Ирина.
Девушка взяла книгу осторожно, словно это была хрупкая старинная вещица, которая может рассыпаться от прикосновения. Она начала читать ровным голосом, без интонации:
– Сжала руки под тёмной вуалью… «Отчего ты сегодня бледна?» – Оттого, что я терпкой печалью Напоила его допьяна.
Как забуду? Он вышел, шатаясь, Искривился мучительно рот… Я сбежала, перил не касаясь, Я бежала за ним до ворот.
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка Всё, что было. Уйдешь, я умру». Улыбнулся спокойно и жутко И сказал мне: «Не стой на ветру».
Когда она закончила, Александр Петрович спросил:
– Вы можете представить эту сцену? Увидеть её мысленным взором?
– Да, – ответила Ирина. – Женщина в тёмной одежде прощается с мужчиной у какого-то здания. Она эмоционально нестабильна, он сохраняет спокойствие.
– Хорошо, – кивнул учитель. – А теперь скажите, кто из них прав? Кто поступает рационально?
– Мужчина, – без колебаний ответил Антон-42. – Женщина демонстрирует признаки эмоциональной нестабильности, что может привести к деструктивным последствиям.
– Но почему мы сопереживаем женщине? – спросил Александр Петрович. – Почему на протяжении веков читатели этого стихотворения чувствовали боль вместе с ней, а не одобрение спокойствия мужчины?
В классе воцарилось молчание. Затем Ирина-12 нерешительно подняла руку:
– Возможно, потому что автор стихотворения описывает ситуацию с точки зрения женщины?
– Отлично! – просиял Александр Петрович. – Это называется «точка зрения повествователя». Но есть нечто большее… Поэзия позволяет нам выйти за пределы рационального анализа и почувствовать эмоцию другого человека. Она существует не для передачи информации, а для передачи переживаний.
– Но это неэффективно, – возразил Максим-28. – Эмоции затуманивают разум и мешают принятию оптимальных решений.
– А что, если человек – это не только разум? – тихо спросил Александр Петрович. – Что, если наша человечность заключается именно в способности чувствовать, даже когда это нерационально?
В классе снова воцарилась тишина. Большинство учеников смотрели на него с недоумением, но в глазах Ирины-12 мелькнуло что-то… Интерес? Беспокойство? Александр Петрович не был уверен.
– Давайте проведём эксперимент, – предложил он. – Я хочу, чтобы вы написали по одному четверостишию. Не анализируя, не просчитывая эффективность коммуникации. Просто выразите какое-нибудь своё чувство, переживание, впечатление.
Ученики послушно активировали голографические клавиатуры на своих партах и приступили к заданию. Александр Петрович ходил между рядами, наблюдая за их работой. Как он и ожидал, большинство создавали технически правильные, но безжизненные строки.
Антон-42 написал:
«Эффективность образования Требует системного подхода. Исключение эмоционального Обеспечит прогресс для народа».
Максим-28:
«День сегодня рационально спланирован, Все задачи решаются последовательно. Время рассчитано, действия оптимизированы, Результат достигается обязательно».
Но когда Александр Петрович подошёл к парте Ирины-12, он увидел нечто иное:
«Почему пустота внутри Кажется тяжелее камня? И о чём говорят снегири, Когда смотрят в глаза упрямо?»
Он остановился, перечитывая строки. Они были неуклюжими, с несовершенной рифмой, но в них было то, чего не хватало остальным – вопрос, идущий не от разума, а от чего-то другого, более глубокого.
– Ирина, – тихо сказал он, – это… настоящие стихи.
Девушка подняла на него растерянный взгляд:
– Я не понимаю, что написала, Александр Петрович. Это просто слова, которые появились в моём сознании. Они нелогичны и не имеют информационной ценности.
– Но они имеют эмоциональную ценность, – мягко возразил учитель. – Они говорят о том, что внутри вас есть нечто большее, чем логика и расчёт.
– Это невозможно, – покачала головой Ирина. – Я прошла полный цикл оптимизации. У меня не должно быть иррациональных импульсов.
Александр Петрович хотел что-то ответить, но в этот момент прозвенел звонок, обозначающий конец урока. Двери кабинета автоматически открылись, и на пороге появилась Наталья Викторовна.
– Время истекло, Александр Петрович, – сказала она. – Ученикам пора на следующий урок.
Дети встали и ровным строем направились к выходу. Последней шла Ирина-12, и на мгновение их глаза встретились. В её взгляде мелькнуло что-то непонятное, тревожное, и Александр Петрович почувствовал, как сжалось сердце. Он вдруг отчётливо осознал, что его работа не закончена – она только начинается.
Вечером того же дня Александр Петрович сидел в своей маленькой квартире на окраине Москвы. Стены были уставлены книжными шкафами – настоящими, деревянными, с потрёпанными томиками бумажных книг. Роскошь, которую мало кто мог себе позволить в век цифровой информации.
Он заварил чай – не в автоматическом синтезаторе, а в старом керамическом чайнике – и открыл потрёпанную записную книжку. Перечитал запись, сделанную несколько лет назад:
«Они создают поколение без души. Рациональных, эффективных, но неспособных чувствовать. Совершенные машины из плоти и крови. Но есть ли в этом будущее для человечества?»
Александр Петрович вздохнул и приписал новую строку:
«Сегодня я увидел проблеск надежды. В глазах девочки, написавшей настоящие стихи, не осознавая этого. Возможно, их программа не так совершенна, как они думают. Возможно, человеческую душу нельзя оптимизировать до конца».
Он отпил чай и задумчиво посмотрел в окно, на сверкающие огнями башни нового Москва-Сити, где располагались офисы крупнейших корпораций, управляемых «детьми алгоритма» первого поколения. Они уже заняли ключевые посты в экономике и политике, и мир менялся на глазах – становился более рациональным, эффективным и… безжизненным.
«Это только начало», – подумал Александр Петрович. – «Настоящая борьба впереди».

Глава 2: Новый порядок
Пять лет спустя Александр Петрович стоял в очереди перед пунктом обязательной цифровой регистрации. Небо над Москвой было затянуто серой пеленой – не то смог, не то низкие облака. Сквозь эту пелену пробивался тусклый свет утреннего солнца, делая окружающий мир плоским, словно вырезанным из картона.
– Гражданин Соколов, Александр Петрович, шестьдесят два года. Неоптимизированный, – раздался механический голос из динамика над входом. – Пройдите для регистрации.
Александр Петрович вздрогнул. Это формулировка появилась недавно. «Неоптимизированные» – так теперь называли людей старшего поколения, тех, кто родился и вырос до эпохи искусственного воспитания. Их было всё меньше – многие уже прошли добровольную «оптимизацию» или программу «рациональной коррекции».
Внутри пункта регистрации было тепло и стерильно чисто. Белые стены, мягкое рассеянное освещение, негромкая музыка – всё призвано было создать атмосферу покоя и безопасности. За стойкой регистрации сидела молодая женщина с безупречно прямой осанкой и идеальным овалом лица. Её безукоризненно уложенные волосы не шевельнулись, когда она подняла голову.
– Александр Петрович Соколов, – произнесла она, глядя не на него, а на появившийся перед ней голографический экран. – Специалист в области классической литературы, бывший педагог. Статус: неоптимизированный, категория наблюдения B.
– Категория наблюдения? – переспросил Александр Петрович. – Это что-то новое?
– Обновление социального протокола от 12 июня 2075 года, – ответила девушка с бейджем «Мария-15, консультант». – Все неоптимизированные граждане распределены по категориям в соответствии с потенциалом интеграции. Категория B означает умеренный потенциал с рекомендацией к добровольной оптимизации.
– А если я не желаю проходить оптимизацию?
Мария-15 наконец посмотрела на него. Её глаза, чистые и прозрачные, не выражали ни осуждения, ни сочувствия – только бесстрастную констатацию факта:
– Это ваше право, Александр Петрович. Оптимизация остаётся добровольной для всех граждан старше сорока лет. Однако, должна отметить, что с 1 сентября вступают в силу новые правила трудоустройства, согласно которым неоптимизированные граждане смогут занимать только позиции категории D и ниже.
– И что входит в категорию D?
– Вспомогательные функции без доступа к принятию решений и без контакта с подрастающим поколением.
Александр Петрович почувствовал, как желудок сжимается от тревоги, но постарался сохранить спокойствие:
– Значит, я больше не смогу преподавать? Даже в частном порядке?
– Совершенно верно. Передача знаний требует оптимизированного подхода, исключающего эмоциональные искажения. – Она сделала паузу. – Хотели бы вы узнать больше о программе добровольной оптимизации? Процедура занимает всего три дня и полностью покрывается государственной страховкой.
– Нет, спасибо, – сухо ответил Александр Петрович.
– Как пожелаете. – Мария-15 сделала отметку в системе. – Ваша цифровая регистрация обновлена. Получите новый идентификационный браслет.
Из отверстия в стойке появился тонкий серебристый браслет с мерцающим дисплеем.
– Этот браслет заменяет все ваши предыдущие документы и платёжные средства, – пояснила Мария-15. – Он также содержит ваш медицинский профиль и отслеживает показатели здоровья. Пожалуйста, носите его постоянно.
Александр Петрович взял браслет и нехотя надел на запястье. Устройство тихо пискнуло и плотно обхватило руку, подстраиваясь под размер.
– Благодарю за сотрудничество, Александр Петрович. Следующий гражданин, пройдите для регистрации.
Выйдя из пункта регистрации, Александр Петрович невольно посмотрел на свою руку. Браслет мягко светился, отображая время, дату и его имя. Внизу дисплея мигала надпись: «Статус: неоптимизированный, B».
Как будто клеймо, подумал он. Или жёлтая звезда из другого времени.
Вечером Александр Петрович встретился с Еленой Михайловной, своей бывшей коллегой из школы. Они договорились увидеться в старом парке на окраине города – одном из немногих мест, где ещё не установили системы тотального наблюдения.
Елена Михайловна выглядела старше своих шестидесяти трёх лет. Морщинки вокруг глаз стали глубже, волосы полностью поседели. Но в её движениях сохранилась та же энергия, которую Александр Петрович помнил по школьным временам.
– Здравствуй, Саша, – она крепко обняла его, и от этого простого человеческого жеста у него защемило сердце. Такие проявления эмоций становились редкостью в мире, где всё больше людей проходило «оптимизацию».
– Как ты, Лена? – спросил он, когда они уселись на скамейку под старым дубом.
– Держусь. – Она невесело усмехнулась. – Видел мой новый браслет? Категория C. Сказали, у меня «низкий потенциал интеграции из-за чрезмерной эмоциональной лабильности». Как будто это диагноз.
– У меня B, – показал запястье Александр Петрович. – Видимо, я всё-таки более рационален, чем ты.
Они оба невесело рассмеялись.
– Слышал последние новости? – спросила Елена Михайловна, понизив голос, хотя рядом никого не было. – Они объявили о начале программы всеобщей оптимизации.
– Как это? – нахмурился Александр Петрович. – Они же обещали, что для старшего поколения это останется добровольным.
– Они изменили формулировку. Теперь это «добровольно-принудительная оптимизация». Сначала будут давить экономически – запретят неоптимизированным работать в большинстве сфер, повысят налоги, ограничат доступ к медицинским услугам. А потом…
– А потом прямой нажим, – закончил за неё Александр Петрович. – Уже началось, Лена. Я сегодня узнал, что больше не смогу преподавать.
Елена Михайловна кивнула:
– Я тоже. Отозвали лицензию на частные уроки музыки. Сказали, что мой «избыточно эмоциональный подход» вреден для развития детей.
Они помолчали, глядя на пруд, где плавали настоящие утки – редкость в городе, где большинство птиц уже заменили дронами-чистильщиками с перьевым покрытием, неотличимым от настоящего.
– Ты слышала что-нибудь о подпольных группах? – тихо спросил Александр Петрович.
Елена Михайловна посмотрела по сторонам и понизила голос почти до шёпота:
– Да, существуют сети сопротивления. Люди, которые отказываются от регистрации, от браслетов, живут под радаром. И не только старики вроде нас. Есть молодые, даже некоторые из «детей алгоритма», у которых что-то пошло «не так» в процессе воспитания.
– Что значит «не так»?
– Они начинают чувствовать. Понимаешь? По-настоящему чувствовать, испытывать эмоции, задавать вопросы, которые выходят за рамки рациональности. – Елена Михайловна подалась вперёд. – И самое удивительное – искусство пробуждает их. Поэзия, музыка, живопись. То, что было исключено из их воспитания, как «неэффективное».
Александр Петрович вспомнил тот последний урок пять лет назад и строчки, написанные Ириной-12. «Почему пустота внутри кажется тяжелее камня?»
– Я верю тебе, – сказал он. – Я видел это сам, хотя тогда не до конца осознавал значение.
– Саша, – Елена Михайловна взяла его за руку. – Я хочу присоединиться к сопротивлению. Организовать подпольные уроки музыки. Пробуждать в детях то, что пытаются в них убить – способность чувствовать.
– Это опасно, Лена, – предупредил он. – Если поймают…
– Что они сделают? Отправят на принудительную оптимизацию? – Она горько усмехнулась. – Так это рано или поздно всё равно случится. По крайней мере, я буду бороться.
Александр Петрович долго смотрел на старую подругу. Затем решительно кивнул:
– Я с тобой. Литература и музыка – чем не оружие против бездушной машины?
В тот же вечер, в Министерстве Оптимизации Населения, расположенном в сверкающей башне из стекла и металла в центре Москвы, шло совещание высшего руководства.
За овальным столом сидели восемь человек – все молодые, все с идеальной осанкой, все с точными, выверенными движениями. Во главе стола – Маркус-7, глава министерства, один из первых и самых успешных «детей алгоритма».
В свои двадцать пять лет он уже четыре года руководил важнейшим министерством страны. Его безупречно симметричное лицо не выражало никаких эмоций, когда он изучал голографические экраны с аналитическими данными, парящие перед ним.
– Прогресс программы оптимизации составляет 67.4% от запланированного показателя, – сообщил он собравшимся. – Это на 3.2% ниже прогнозируемого результата. Необходимо выявить причины отклонения и скорректировать стратегию.
– Основное сопротивление наблюдается среди неоптимизированных граждан старшей возрастной категории, – отозвалась женщина справа от него, Анжела-5, заместитель по аналитике. – Они демонстрируют нерациональное упорство в сохранении эмоциональных паттернов.
– Следует ужесточить экономические стимулы, – предложил Виктор-9, руководитель отдела внедрения. – Данные моделирования показывают, что увеличение разницы в доступе к ресурсам между оптимизированными и неоптимизированными гражданами на 30% приведёт к повышению добровольной конверсии на 12.8%.
– Согласен, – кивнул Маркус-7. – Подготовьте соответствующие нормативные акты. Что ещё?
– Зафиксированы случаи аномального поведения среди оптимизированной молодёжи, – сообщила Ирина-12, руководитель отдела анализа эффективности. – За последний квартал выявлено 147 случаев проявления иррациональных интересов и эмоциональных реакций.
Маркус-7 впервые за всё совещание проявил нечто, похожее на эмоцию – лёгкое недоумение, отразившееся в едва заметно поднятой брови:
– Это на 43% больше, чем в предыдущем квартале. Выявлены причины?
– Предварительный анализ указывает на несанкционированный доступ к культурным артефактам прошлого – литературе, музыке, изобразительному искусству, – ответила Ирина-12. – В 76% случаев отмечен контакт с неоптимизированными гражданами, практикующими подпольное обучение.
– Необходимо усилить контроль, – распорядился Маркус-7. – Ирина-12, подготовьте детальный анализ каналов распространения этих культурных «инфекций». Виктор-9, разработайте программу выявления и изоляции подпольных центров обучения.
– Есть ещё один аспект, – вмешался Алексей-3, самый старший из присутствующих, принадлежавший к самому первому поколению «детей алгоритма». – АИ-9000 выражает озабоченность.
Все повернулись к голографическому изображению, возникшему над центром стола. Объёмная проекция не изображала человеческую фигуру – лишь пульсирующую сферу из светящихся линий, переплетающихся в сложном узоре.