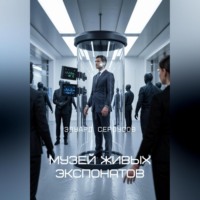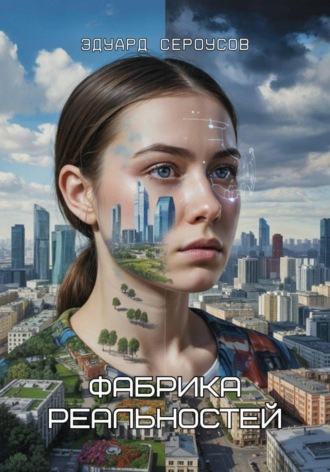
Полная версия
Фабрика реальностей

Эдуард Сероусов
Фабрика реальностей
ЧАСТЬ I: ЗЕРКАЛЬНЫЙ МИР
Глава 1: Идеальный день
Елена Соколова проснулась от звона будильника ровно в шесть утра. Солнечные лучи, просачивающиеся сквозь полупрозрачные шторы, окрашивали скромную спальню в тёплые тона. Она потянулась, медленно возвращаясь в сознание, и привычным жестом коснулась мочки правого уха, где располагалось крошечное управляющее устройство.
– Фильтр "Классическая архитектура", пятьдесят процентов прозрачности, – произнесла она тихим, ещё сонным голосом.
Мир за окном дрогнул, почти незаметно для неопытного глаза. Обшарпанное здание напротив не исчезло полностью, но его контуры смягчились, а поверх облупившейся краски проступили элегантные классические формы. Теперь здание напоминало старинный особняк девятнадцатого века с колоннами и лепниной. Не безупречная иллюзия – при желании Елена могла видеть сквозь неё следы подлинной реальности – но достаточная, чтобы сделать вид из окна приятнее.
Большинство пользователей "Миража" никогда не изменяли настройки своих фильтров вручную, полагаясь на автоматически подобранные системой параметры. Немногие даже осознавали степень модификации своего восприятия. Но Елена была особенным случаем. Как бывший ведущий специалист по нейроэтике в корпорации "Мираж", она имела расширенный доступ к настройкам системы и, что важнее, понимание её работы.
Она вошла в ванную комнату и взглянула в зеркало. Сорокадвухлетняя женщина с преждевременно поседевшими волосами и внимательными серыми глазами смотрела на неё в ответ. Лицо без макияжа, с тонкими морщинками вокруг глаз и между бровей, свидетельствующими о привычке хмуриться. Елена могла бы активировать фильтр "Улучшенное отражение", который бы сгладил эти признаки возраста, но принципиально этого не делала. Даже эта маленькая честность перед собой казалась значимой.
Приняв душ, она оделась в свой обычный строгий костюм – тёмно-синий жакет и юбку до колена – одежду, которую многие её студенты считали старомодной. Завтрак был прост: овсянка, чёрный кофе и апельсин. В этой рутине была определённая стабильность, которая помогала ей справляться с моральной двойственностью её положения.
Покидая квартиру, Елена настроила фильтры на более низкий уровень прозрачности, чем обычно используют люди. Это было частью её личного ритуала – наблюдать за миром с минимальными искажениями, как напоминание о цене, которую общество платит за комфорт "Миража".
На улице она увидела гораздо больше истинной реальности, чем большинство прохожих: мусор в углах тротуаров, трещины в асфальте, потрёпанные фасады зданий, усталые лица людей. Для обычного пользователя "Миража" всё это было скрыто персонализированными фильтрами: кто-то видел город-сад с вечнозелеными растениями, кто-то – футуристический мегаполис, другие – исторические здания в соответствии со своими предпочтениями.
Поток людей двигался вокруг Елены, каждый в своей личной версии Москвы. Мужчина средних лет прошёл мимо, разговаривая с невидимым собеседником – скорее всего, его фильтр "Миража" создавал иллюзию компаньона, точно соответствующего его потребности в общении. Молодая пара обнималась перед витриной магазина, восхищаясь чем-то, что видели только они. Пожилая женщина кормила несуществующих голубей.
Когда Елена остановилась на перекрёстке в ожидании зелёного сигнала светофора, рядом с ней затормозил потрёпанный автомобиль, из которого доносилась громкая музыка. Для большинства прохожих, судя по их отсутствующим выражениям лиц, эти звуки были отфильтрованы или трансформированы в что-то приятное. Елена же морщилась от резких басов, намеренно сохраняя свои слуховые фильтры на минимуме.
"Человеческий слух эволюционировал миллионы лет, чтобы предупреждать об опасности и воспринимать нюансы окружающего мира," – думала она. – "А мы заткнули уши технологической ватой."
По дороге к университету она наблюдала, как две женщины чуть не столкнулись друг с другом, а затем продолжили движение, словно другая была невидимкой. Система "Мираж" автоматически корректировала их восприятие, позволяя каждой видеть модифицированную версию происходящего. При этом базовая физическая реальность оставалась неизменной – невозможно было пройти сквозь стену или человека, даже если система маскировала их присутствие. "Инга", искусственный интеллект "Миража", мгновенно согласовывала миллиарды индивидуальных реальностей, решая подобные конфликты.
Университетский кампус был одним из немногих мест в городе, где архитектура в значительной степени соответствовала дореальностной эпохе – строгие здания середины XX века, обширные зелёные зоны, скульптуры. Тем не менее, даже здесь "Мираж" незаметно корректировал детали: убирал надписи на стенах, освежал цвета, регулировал освещение в соответствии с психологическим состоянием каждого человека.
Входя в аудиторию, Елена полностью отключила свои фильтры – ещё одна профессиональная привилегия, которой она дорожила. Она считала, что преподавание философии требует максимальной ясности восприятия. Её студенты, конечно, продолжали видеть мир через свои индивидуальные фильтры, но хотя бы она сама могла смотреть на них незамутнённым взглядом.
Сегодняшний семинар был посвящён философии восприятия – теме, которая приобрела новое измерение в эпоху "Миража". Елена написала на доске цитату из Иммануила Канта: "Мы не можем познать вещи сами по себе, а только их явления".
– Доброе утро, – обратилась она к группе из пятнадцати молодых людей, которые постепенно занимали места в аудитории. – Сегодня мы обсудим фундаментальный вопрос: существует ли объективная реальность? И если существует, имеет ли значение наш доступ к ней?
Студенты смотрели на неё с вежливым интересом. Большинство из них выросли уже в эпоху "Миража" – они никогда не знали мира без фильтров, изменяющих их восприятие в соответствии с предпочтениями и психологическим комфортом.
– Профессор Соколова, – подняла руку девушка с первого ряда, Анастасия, – разве дихотомия "объективное-субъективное" не устарела? Современная нейронаука доказала, что всё восприятие конструируется мозгом. "Мираж" просто делает этот процесс более эффективным.
Елена улыбнулась. Этот аргумент она слышала часто, особенно от молодого поколения.
– Интересный тезис, Анастасия. Действительно, мозг всегда фильтрует и интерпретирует сенсорные данные. Но есть фундаментальное различие между естественным процессом восприятия и технологически опосредованным. Представьте, что в этой аудитории начался пожар. В естественном восприятии мы все бы реагировали на одно и то же явление, хотя интерпретировали бы его по-разному. Но что произойдёт, если ваши фильтры "Миража" решат, что для вашего психологического благополучия лучше показать вам не огонь, а, скажем, красивый закат?
– Система имеет протоколы безопасности, – возразил молодой человек из дальнего угла, Виктор. – "Мираж" не скрывает реальные опасности.
– Так ли это? – Елена обвела взглядом аудиторию. – Кто определяет, что является достаточной опасностью для отключения фильтров? Алгоритмы, написанные людьми с определёнными предположениями и ценностями. Если система решит, что постепенное ухудшение экологии не представляет непосредственной угрозы для вашей жизни, она может десятилетиями скрывать от вас загрязнение воздуха, воды, почвы.
Семинар продолжался в подобном ключе: студенты в большинстве своём защищали систему, в которой выросли, а Елена мягко, но настойчиво подталкивала их к критическому мышлению.
– Не поймите меня неправильно, – говорила она. – Я не утверждаю, что "Мираж" – это абсолютное зло. Технология сама по себе нейтральна. Но любая система, которая настолько фундаментально влияет на наше восприятие мира, заслуживает постоянного критического осмысления. Особенно когда эта система находится под контролем частной корпорации.
В конце занятия к ней подошла Анастасия, явно озадаченная обсуждением.
– Профессор, я понимаю вашу озабоченность, но разве не в этом суть прогресса? Мы создаём технологии, чтобы улучшить человеческий опыт. Если большинство людей предпочитает видеть мир более красивым и комфортным, разве это плохо?
Елена внимательно посмотрела на студентку. В её вопросе не было вызова, только искреннее непонимание.
– Анастасия, человеческое сознание формировалось в диалоге с реальностью, включая её неприятные аспекты. Боль, страдание, уродство – всё это часть целостного опыта, который определяет нас как вид. Что произойдёт с будущими поколениями, которые вырастут в мире, где каждый дискомфорт автоматически сглаживается?
– Но ведь мы не отрицаем существование страдания, – возразила Анастасия. – Мы просто выбираем, как его воспринимать.
– "Мы выбираем"? – мягко переспросила Елена. – Или это выбирают за нас алгоритмы, настроенные на максимизацию определённых параметров?
Это был ключевой вопрос, который Елена пыталась донести до своих студентов: иллюзия выбора в системе, где фундаментальные параметры восприятия контролируются невидимыми алгоритмами.
После занятий Елена зашла в университетское кафе. Здесь она позволила себе небольшое послабление – включила базовые пищевые фильтры "Миража". Простой суп и чёрный хлеб на её подносе теперь имели более насыщенный вкус и аромат. Это был компромисс, на который она шла для собственного комфорта, признавая внутреннее противоречие в своей позиции.
За соседним столиком группа молодых преподавателей оживлённо обсуждала последние академические тенденции. Елена слышала фрагменты разговора:
– …новая методика полного погружения для изучения древних цивилизаций… – …студенты могут буквально ходить по улицам Вавилона… – …восприятие исторических событий через эмоциональный фильтр участников…
Всё это было применением технологии "Мираж" в образовании – области, которая трансформировалась, возможно, сильнее всего. Зачем читать о Французской революции, когда можно "испытать" её, находясь в безопасности аудитории? Зачем изучать анатомию по схемам, когда можно "видеть" органы сквозь кожу подопытного животного?
Елена понимала привлекательность этих методов, но также видела их ограничения и опасности. Образование через модифицированное восприятие неизбежно содержало встроенные интерпретации и упрощения. Студенты "переживали" не сами события, а их реконструкции, созданные современными людьми с современными предубеждениями.
Вернувшись в свой кабинет, Елена проверила сообщения. Среди них было напоминание о том, что сегодня вечером она договорилась встретиться с дочерью в кафе "Ностальгия" в центре города.
Мысль о встрече с Софьей одновременно радовала и тревожила Елену. Их отношения стали напряжёнными в последние годы, особенно после того, как Елена покинула "Мираж" и начала публично выражать своё критическое отношение к технологии, которую когда-то помогала создавать.
Для Софьи, выросшей с "Миражом", позиция матери казалась странной и даже реакционной. В восемнадцать лет она видела в технологии только возможности и свободу, а не потенциальные опасности.
В "Ностальгии" Елена оказалась раньше дочери. Кафе было оформлено в стиле середины XX века, с винтажной мебелью и старыми фотографиями на стенах. Это было одно из немногих мест в городе, где дизайн интерьера соответствовал реальности – заведение позиционировало себя как место для тех, кто ценит подлинность.
Софья появилась через десять минут – высокая, стройная девушка с тёмными волосами, собранными в небрежный пучок. Её яркая, стильная одежда контрастировала с консервативным гардеробом матери. На мочке уха у неё была заметна небольшая декоративная накладка, скрывающая управляющее устройство "Миража" – такие аксессуары были популярны среди молодёжи.
– Мама, – Софья быстро обняла Елену и села напротив. – Ты опять с минимальными фильтрами? Это кафе могло бы выглядеть гораздо интереснее.
Елена улыбнулась, отметив, что дочь сразу определила её настройки. Молодое поколение развило новый вид социальной чувствительности – способность угадывать настройки фильтров других людей по тонким поведенческим намёкам.
– Мне нравится видеть вещи такими, какие они есть, – ответила она. – Особенно когда я с тобой.
– Вещи такие, какими их создал дизайнер этого кафе, – парировала Софья. – Это всё равно интерпретация. Просто более ограниченная, чем та, которую предлагает "Мираж".
Они заказали чай и пирожные. Для Софьи десерт, вероятно, выглядел и пах иначе, чем для её матери – "Мираж" автоматически адаптировал сенсорные характеристики пищи под индивидуальные предпочтения каждого пользователя.
– Как твои занятия? – спросила Елена, стремясь начать с нейтральной темы.
– Интересно. Мы изучаем нейроархитектуру общественных пространств – как проектировать здания, которые будут по-разному восприниматься разными людьми, но при этом сохранять функциональную совместимость.
Это была одна из новых дисциплин, возникших в эпоху "Миража" – профессии на стыке традиционного проектирования и программирования восприятия.
– Звучит увлекательно, – кивнула Елена. – И сложно. Как вы решаете противоречия между индивидуальными восприятиями?
– В этом вся суть, – оживилась Софья. – Мы создаём базовую физическую структуру, которая остаётся неизменной, но каждый человек может видеть уникальные декоративные элементы, цветовые схемы, даже стили. Например, одно и то же здание может выглядеть как классический особняк для ценителей традиций, или как хай-тек конструкция для тех, кто предпочитает современность.
– А что, если кто-то захочет видеть настоящее здание? Без модификаций?
Софья нахмурилась, этот вопрос явно казался ей бессмысленным.
– Зачем кому-то этого хотеть? Базовая конструкция утилитарна, она создана только для функциональности. Красота и смысл добавляются индивидуальными фильтрами.
– Но разве нет ценности в том, чтобы видеть одну и ту же реальность? Разделять общее восприятие с другими людьми?
– Мама, – Софья вздохнула с лёгким раздражением, – мы всё равно никогда не видели одну и ту же реальность. Даже до "Миража" восприятие каждого человека было уникальным. Система просто сделала эти различия более гармоничными и приятными.
Это был ключевой аргумент защитников "Миража" – технология лишь развивает естественную субъективность человеческого восприятия. Елена слышала его бесчисленное количество раз, включая свои собственные презентации, когда работала в корпорации.
– Есть фундаментальное различие, – мягко возразила она. – Естественные различия восприятия возникают органически, через взаимодействие сознания с внешним миром. "Мираж" же программирует восприятие в соответствии с алгоритмами, созданными людьми с определёнными интересами.
– Здесь ты говоришь как конспиролог, – Софья покачала головой. – "Люди с определёнными интересами" – это звучит так, будто существует какой-то зловещий план. "Мираж" просто даёт людям то, что они хотят видеть.
– Откуда система знает, что люди хотят видеть?
– Из анализа их предпочтений, реакций, психологического состояния. Это всё обрабатывается нейросетями.
– И кто программирует эти нейросети? Кто определяет параметры анализа? Кто решает, какие корреляции значимы?
Софья отложила вилку и внимательно посмотрела на мать.
– Я знаю, что ты была одной из тех, кто это решал, – сказала она тихо. – И что ты ушла из-за разногласий. Но большинство людей счастливы с "Миражом", мама. Они не чувствуют себя манипулируемыми или обманутыми.
– Счастливый раб всё равно остаётся рабом, – ответила Елена, и тут же пожалела о своих словах, увидев, как лицо дочери закрылось.
– Так вот как ты нас видишь? Рабами? – голос Софьи стал холодным. – Или только меня? Бедная дочь, порабощённая системой, которую её мать помогла создать, а потом благородно покинула?
Елена протянула руку через стол.
– Соня, я не это имела в виду. Я просто хочу, чтобы ты иногда смотрела на мир без фильтров. Чтобы ты имела возможность сравнить.
– Я могу отключить фильтры в любой момент, – возразила Софья. – Это моё право как пользователя. Но я этого не делаю, потому что не вижу смысла намеренно воспринимать мир хуже, чем могу.
В этом и была суть конфликта поколений. Для Софьи и её сверстников модифицированное восприятие не было искажением реальности – оно было улучшением, расширением человеческих возможностей. Для них отказ от "Миража" был сродни отказу от любого другого технологического удобства – бессмысленным самоограничением.
– Я просто боюсь, что мы теряем что-то важное, – сказала Елена тихо. – Что-то, что делало нас людьми.
– А я думаю, что мы становимся чем-то большим, чем просто люди, – ответила Софья. – Мы эволюционируем.
На этой философской ноте их разговор постепенно перешёл к более личным темам – учёбе Софьи, работе Елены, общим знакомым. Напряжение сохранялось, но было приглушено любовью, которая, несмотря на идеологические разногласия, связывала мать и дочь.
Прощаясь, они обнялись крепче обычного, словно пытаясь физическим контактом преодолеть ту пропасть восприятия, которая между ними пролегла.
Возвращаясь домой в вечерних сумерках, Елена снова снизила уровень фильтрации, наблюдая за городом таким, каким он был на самом деле. Без приукрашиваний она видела потрёпанные фасады, трещины в тротуаре, хмурые лица прохожих, уставших после рабочего дня. Но она также замечала детали, которые большинство людей давно не видели – спонтанные проявления человечности: уличного музыканта, играющего для немногочисленных слушателей; пожилого мужчину, помогающего женщине с тяжёлыми сумками; детей, рисующих мелками на асфальте причудливые узоры.
"Это тоже часть реальности," – думала она. – "И, возможно, самая важная её часть."
В своей квартире Елена выключила свет и подошла к окну. Ночная Москва расстилалась перед ней, мерцая миллионами огней. Она полностью отключила свои фильтры – ещё одна привилегия, доступная лишь бывшим сотрудникам высшего уровня.
Теперь она видела город таким, какой он был – не идеализированным, не приукрашенным, но настоящим. С изношенной инфраструктурой, неравномерным развитием, следами экологических проблем. Но также с его подлинной красотой, рождённой из случайного взаимодействия человеческих жизней, истории и природы.
Елена думала о Софье и других молодых людях, которые никогда не видели мир таким. Для них реальность всегда была отфильтрована, адаптирована, персонализирована. И это беспокоило её больше всего – не технология сама по себе, а поколение, для которого объективная, общая реальность становилась абстрактным, почти мифическим понятием.
Где-то в глубине души она чувствовала вину. Она была частью команды, создавшей "Мираж". Она помогала разрабатывать этические протоколы системы, которые должны были защитить пользователей от наиболее вопиющих манипуляций. Но годы спустя она поняла, что даже самые продуманные этические ограничения не могли предотвратить фундаментального сдвига в человеческом восприятии.
Отойдя от окна, Елена села за рабочий стол и открыла свою последнюю научную статью – критический анализ долгосрочных нейрокогнитивных эффектов технологически модифицированного восприятия. Это была её форма сопротивления, её способ искупления. Она не могла остановить "Мираж", но могла хотя бы документировать его влияние, предупреждать, задавать неудобные вопросы.
Глубоко вздохнув, она погрузилась в работу, зная, что завтра будет ещё один день в мире, где реальность стала вопросом личного выбора – или иллюзией такого выбора.

Глава 2: За кулисами
Центральный комплекс корпорации "Мираж" возвышался над Москвой-рекой массивной конструкцией из стекла и металла. Здание, спроектированное знаменитым архитектором, должно было символизировать прозрачность и инновационность компании, хотя многие критики отмечали иронию – штаб-квартира корпорации, специализирующейся на модификации восприятия реальности, была одним из немногих строений в городе, которое все видели одинаково.
В конференц-зале верхнего этажа собралось высшее руководство корпорации. Просторное помещение с панорамными окнами предлагало впечатляющий вид на город, но внимание присутствующих было сосредоточено на человеке, стоящем у интерактивной голографической проекции в центре стола.
Александр Мирский, основатель и генеральный директор "Миража", излучал энергию, несмотря на свои 57 лет. Высокий, подтянутый, с выразительными чертами лица и проницательными тёмными глазами, он обладал харизмой, которая заставляла людей слушать. Его безупречно сшитый костюм серого цвета и минималистичный дизайнерский галстук подчёркивали элегантную простоту, которую он культивировал в своём имидже.
– Десять лет назад, – начал Мирский своим глубоким, хорошо поставленным голосом, – мы предложили человечеству революционную концепцию: технологию, которая позволяет каждому воспринимать мир так, как он или она этого хочет. Многие считали нашу идею утопической, невозможной, даже опасной.
Он сделал паузу, обводя взглядом присутствующих – двенадцать мужчин и женщин, составлявших исполнительный комитет "Миража".
– Сегодня наша технология интегрирована в жизнь трёх с половиной миллиардов людей по всему миру. Наша рыночная капитализация превышает ВВП большинства стран. Мы не просто создали успешный продукт – мы изменили саму парадигму человеческого существования.
На голографическом дисплее появились графики и диаграммы, демонстрирующие рост пользовательской базы и финансовых показателей. Цифры были впечатляющими: 78% населения развитых стран использовали "Мираж" ежедневно; средний пользователь проводил с активированной системой 17,3 часа в сутки; удовлетворённость пользователей достигала 92%.
– Однако наш успех создаёт и новые вызовы, – продолжил Мирский, и изображение сменилось на более сложные графики. – Мы приближаемся к теоретическим пределам нашей текущей технологической платформы. Инфраструктура "Миража" была спроектирована для обработки миллиардов параллельных реальностей, но мы не предвидели некоторых паттернов использования, которые сейчас становятся всё более распространёнными.
Он кивнул в сторону худощавого мужчины с растрёпанными волосами, сидевшего в конце стола.
– Михаил Левин, наш главный инженер, представит технический отчёт о текущем состоянии системы.
Михаил нервно поправил очки и поднялся. В свои 39 лет он оставался застенчивым, несмотря на высокую должность и всемирное признание его технического гения. В отличие от большинства присутствующих, одетых в безупречные деловые костюмы, Михаил был в простой чёрной водолазке и тёмных брюках – уступка корпоративному дресс-коду, на которую руководство закрывало глаза из-за его незаменимости.
– Благодарю, Александр Викторович, – начал он, и голограмма трансформировалась в сложную трёхмерную сеть, представляющую архитектуру системы "Мираж". – За последний квартал мы зарегистрировали увеличение числа так называемых "сбоев согласования" на 17,6%. Это ситуации, когда ИИ нашей системы, Инга, не может оптимально разрешить противоречия между индивидуальными восприятиями разных пользователей.
Михаил увеличил часть сети, где красные точки обозначали проблемные узлы.
– Большинство этих сбоев происходит в густонаселённых городских районах с высокой плотностью активных пользователей. Когда слишком много людей с радикально различными предпочтениями восприятия находятся в одном физическом пространстве, система вынуждена идти на компромиссы, которые могут приводить к субоптимальному пользовательскому опыту.
– Что конкретно происходит в этих случаях? – спросила Вероника Штерн, финансовый директор, элегантная женщина с безупречно уложенными платиновыми волосами.
– В большинстве случаев это незначительные аномалии, – ответил Михаил. – Мгновенные "проскальзывания" реальности, когда пользователь на долю секунды может увидеть неотфильтрованную версию объекта или даже версию, соответствующую восприятию другого пользователя. Система быстро корректирует такие сбои, и они обычно остаются незамеченными. Однако их растущая частота указывает на системную проблему.
– Насколько это серьёзно? – спросил Олег Барсуков, директор по безопасности, массивный мужчина с военной выправкой. – Есть ли риск полномасштабных отказов?
– Теоретически такая возможность существует, – осторожно ответил Михаил. – Если количество конфликтующих запросов на модификацию восприятия в одной географической точке превысит вычислительную мощность локальных серверов, может произойти каскадный сбой. В худшем сценарии это приведёт к временному отключению фильтров для всех пользователей в затронутой зоне.
По конференц-залу пробежал встревоженный шёпот. Все присутствующие понимали потенциальные последствия такого сбоя – внезапное столкновение миллионов людей с неприукрашенной реальностью могло вызвать массовую панику, психологические травмы, даже насилие.