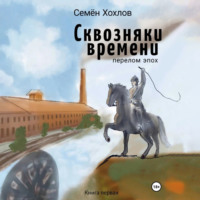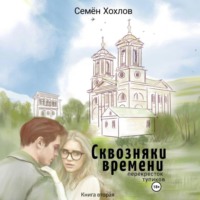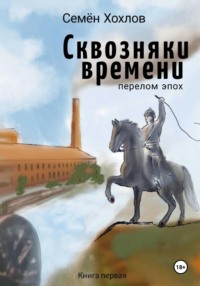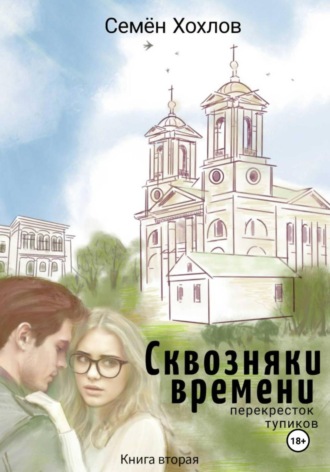
Полная версия
Сквозняки времени. Книга вторая. Перекресток тупиков
Отряды стукнулись на самом перекрестке. Те из драгун, что имели пистолеты, успели выстрелить из них, повалив трех или четырех башкир. Дальше началась сабельная рубка, самое страшное в которой было вывалиться из седла и быть затоптанным своими и чужими конями.
Проскакав перекресток, ротмистр развернул коня и врезался в самую гущу боя. Для многих из башкир это была первая конная сшибка. Не имея достаточного опыта молодые воины пытались компенсировать его смелостью, стараясь как можно сильнее размахнуться и ударить противника саблей. Многие из драгун побывали на турецкой войне, некоторые участвовали в семилетней войне с войсками Фридриха, к тому же, драгунские кони были привычны к сшибкам и понимали команды своих седоков, подаваясь во время рубки то вправо, то влево.
Если бы количество конных с обоих сторон было одинаково, то драгуны вышли бы победителями, но башкир было намного больше, и на месте раненого или убитого быстро появлялся другой. Сражение раскололось на несколько отдельных очагов, и ротмистр с небольшой группкой человек в пять драгун был оттеснен на боковую дорогу, в то время как остатки полуэскадрона, теснимые все той же массой бунтующих башкир, начали отходить назад к отряду Михельсона.
Лыкин рубил и рубил, то вставая на стременах, то быстро опускаясь в седло. Добрая половина его ударов доходила до цели. Опытный офицер, он даже в кутерьме боя понимал, что его почти перемолотый полуэскадрон спешно отходит по основной дороге, в то время как он с еще тремя драгунами – Сытовым, Катунькиным и, кажется, Дупловым, бьется в стороне с группой из одиннадцати башкир, среди которых выделялся молодой батыр, одетый в дорогую кольчугу.
Ротмистр рубанул по незащищенной шее очередного неприятеля, тот, схватившись за рану, отъехал в сторону. Перед Лыкиным оказалось пустое пространство в несколько саженей. Воспользовавшись возникшей передышкой, офицер выхватил второй пистолет и, взведя курок, удачно выстрелил еще в одного воина. Одновременно с этим два конных башкирина обрушили свои сабли на бившегося с ними Дуплова, тот, захрипев, повалился на землю.
Ротмистр успел подумать, что выстоять им троим против девятерых было мало шансов, когда все услышали со стороны Сибирского тракта частые ружейные выстрелы, за которыми последовало два выстрела из пушек. Башкиры опасливо покосились в сторону канонады. Теперь оттуда, казалось, доносились громкие крики раненых.
Лыкин знал почти наверняка, что сейчас происходит в одной-двух верстах от них. Угадав по звукам боя, что на них катится большая конная масса, подполковник Михельсон приказал распрячь две пушки и приготовить рогатки. Солдаты по всей длине отряда приготовили свои ружья, и, когда к пушкам отступил заметно поредевший драгунский полуэскадрон, рогатки были выставлены вперед и передние стрелки открыли огонь из ружей. В это время все остальные не занятые боем солдаты начали передавать вперед заряженные ружья и принимать назад разряженные.
Таким образом, находившиеся впереди отряда стрелки могли вести почти непрерывную ружейную стрельбу по нахлынувшим башкирам, которые в горячке боя пытались рубить преграждавшие им путь рогатки. Когда всадников перед рогатками набралось очень много и они, казалось, вот-вот прорвутся, артиллеристы дали картечный залп.
Ударившая в упор картечь почти целиком скосила передние ряды атакующих, ободрало до костей людскую и конскую плоть и оставило без коры сосны вдоль дороги. Лава атакующих дрогнула и покатилась назад, продолжая нести потери от ружейного огня. Успевшие сделать перезарядку артиллеристы выстрелили вдогонку ядрами, одно из которых угодило в лес, срезало вековую лиственницу, но не причинило никакого вреда, а второе попало в самый центр отступавших, проделав там небольшую просеку.
Башкиры на боковой дороге угадали в Лыкине офицера. Тот, что был облачен в кольчугу, отдал команду, и в сторону драгун полетели два аркана. Первым арканом был выдернут из седла драгун Сытов, вторая петля прилетела на шею ротмистру и начала быстро затягиваться. Лыкин схватился за все туже натягивающуюся веревку, стало нечем дышать, в голове застучало: «Только не плен!» Ротмистр уже знал, что бунтовщики предлагают пленным офицерам на выбор или присягу воскресшему царю или виселицу. А принести присягу самозванцу он позволить себе не мог.
Когда петля аркана сдавила так, что ротмистр уже ничего не видел вокруг, то последний из оставшихся драгун Катунькин налетел на тянувшего аркан башкирина и рубанул его палашом. Падая, тот выпустил аркан. Лыкин наконец-то смог ослабить веревку и вздохнуть полной грудью. К офицеру начало возвращаться чувство реальности, хотя перед глазами еще стояли красные круги.
Ротмистр вдруг понял, что перед ним оказался воин в кольчуге, на левой щеке которого был заметен розовый шрам от недавнего сабельного удара. Башкирин привстал на стременах и замахнулся саблей. Их глаза встретились, и Лыкин узнал этот взгляд: глаза молодого башкирского воина были точь-в-точь как у Юлая Азналина десять лет назад. Вне всякого сомнения перед офицером был сын башкирского старшины – Салават Юлаев. Лыкин попробовал парировать удар, но тело после аркана слушалось плохо.
Салават рубанул офицера наискось: он узнал в нем того, кто много лет назад приезжал к его отцу, чтобы вести того под конвоем, и сейчас батыр ликовал, радуясь возможности расплаты за родовой позор. Салават нанес удар с оттягом, сабля противно лязгнула, значит, перерублены или задеты ребра, из раны сразу брызнула кровь. Салават хотел нанести добивающий удар, но в это время последний из оставшихся драгун схватил коня офицера за повод и, сильно дернув, поскакал с ним вдоль дороги.
Надо было преследовать этих двоих и добить офицера, но сзади на большой дороге шел бой, и, судя по звукам, сородичам Салавата там приходилось туго, поэтому Юлаев решил не преследовать своих противников, а возвращаться назад. Перекинув через круп лошади связанного полузадушенного драгуна, воины поехали назад.
Глава 6. 1995-й
Перед входом в музей Света остановилась, ей снова стало не по себе. Здание особняка теперь казалось небезопасным. Переборов страх, девушка вошла внутрь и тут же увидела Саню, слонявшегося по вестибюлю безо всякого дела.
– Света! – парень явно обрадовался ей. – С тобой все в порядке?
– Здравствуй, Саша! Ну, так… могло бы быть и лучше… Хотя, как знать, не приди ты вовремя на помощь, могло быть и гораздо хуже…
– Света, я ведь даже и не знал, что ты здесь работаешь! Мы сюда приехали, чтобы здание этому бизнесмену из Свердловска показать. Николай Петрович велел нам с Олегом ждать на улице, а когда тут шум начался, я в окна глянул, и мне показалось, что тебя увидел! Внутрь забежал, а тут нет никого, потом слышу – из угловой двери какой-то шум, забегаю туда, а там этот придурок, парашютист отмороженный, к тебе пристает!
– Почему парашютист? – не поняла девушка.
– Да потому что он придурок! – Саня чуть не сплюнул, не замечая того, что его объяснение зациклилось. – Он же на «малолетке» сидел…
– Малолетке? – опять не поняла Света.
– Ну, зона такая для несовершеннолетних! Они тогда с пацанами попытались двадцать пятый магазин обокрасть, но перепились там все и уснули.
– Ааа, это он там был?
– Их там человек шесть было, ну и он в том числе, – подтвердил Саня.
Света вспомнила ту историю, о которой пять лет назад говорил весь город. В стране полным ходом шла перестройка. С экранов телевизоров генсек Михаил Горбачев вещал о демократии и гласности, и его слова эхом отражались от пустых прилавков магазинов. Многие товары можно было приобрести только при наличии специальных талонов, которые в начале каждого месяца разносили по квартирам старшие по дому. Однако наличие талона еще не гарантировало приобретение масла, мяса, сахара, муки или сигарет. Нужный товар еще нужно было подкараулить в магазине и отстоять за ним длинную очередь. Когда товар за прилавком иссякал, все, кому не досталось, начинали почем зря костерить советскую торговлю, продавцов и Мишку Меченого, как за родимое пятно на голове прозвали в народе Горбачева.
Под Новый год по Катаву пронесся невероятный слух – в один из центральных универмагов города, в двадцать пятый магазин на улице Ленина, завезли новогодние продукты: шампанское, мандарины и шоколад. За дефицитными товарами с самого утра выстроилась длинная очередь. Чтобы увеличить число осчастливленных семей, в одни руки отпускали не больше одной бутылки шампанского, две плитки шоколада и не больше двух килограммов мандаринов. Удивительно, что к концу первого дня в магазине оставалась нераспроданной примерно половина из столь желанных атрибутов новогоднего стола, и все, кто не успел приобрести шампанское или мандарины, планировали сделать это на следующей день.
Ночью двадцать пятый магазин был взломан: через подсобное помещение, не оборудованное сигнализацией, в него проникла компания пацанов. Они сумели вскрыть и обчистить магазинную кассу со всей дневной выручкой, после чего добрались до ящиков с шампанским, шоколадом и мандаринами. Будь в этой компании кто-нибудь поумнее, они бы унесли с собой столько, сколько бы смогли. Но поумнее никого не нашлось, и взломщики тут же принялись отмечать удачное дело шампанским, заедая его шоколадом.
Пришедшие утром продавцы обнаружили всю банду спящими на полу среди шоколадной фольги, мандариновых кожурок и пустых бутылок советского шампанского. Милиция взяла всех тепленькими. Дело получилось резонансным, и прокурор на суде потребовал реальных сроков. Самому старшему в момент совершения преступления было семнадцать, но пока шло следствие, ему успело стукнуть восемнадцать, и, как достигший совершеннолетия, он был отправлен на взрослую зону. Двоим из взломщиков не было четырнадцати, и под уголовное наказание они не попали, отделавшись постановкой на учет в детской комнате милиции. Троих, включая Соплю, отправили на два года в колонию для малолетних преступников.
– На «малолетке», по слухам, порядки хуже, чем на взрослой зоне, – продолжил Саня. – Там много странного. Если, например, кто-нибудь присел на толчок, и в это время над зоной пролетел самолет, то ему нельзя слезать, пока не пролетит второй, иначе он становится парашютистом и должен начинать прыгать с нар, как только над зоной пролетает любой самолет.
– Дикость какая, – Света даже невольно усмехнулась – настолько нелепым поначалу показался Санин рассказ, но она тут же вспомнила, как им на лекции профессор Ткачев однажды объяснял магическое мышление средневекового человека, после чего сказал, что такой образ мысли полностью не ушел и до сих пор встречается во многих субкультурах, помнится, он тогда для примера приводил обитателей зон и лагерей.
– Я же говорю, придурок! Я попробовал ему мозги немножко вправить, но не факт, что это помогло! По-моему, Николай Петрович в ахтунге был от его поведения!
– Не знаю… – с сомнением проговорила девушка. – По-моему, Сопля напал на меня по приказу Гнедых.
– Да ну, вряд ли! Николай Петрович залетел в подвал, когда я учил этого придурка хорошим манерам. Он сначала наорал на меня, чтобы я прекратил бить этого умалишенного. Я остановился и рассказал, что Сопля загнал тебя в подвал, тогда он наорал на него, а потом спросил меня, куда ты делась. А я во всей этой суматохе не заметил, как ты мимо нас проскочила!
– А я мимо вас и не проскакивала! Я в церковь по подземному ходу перебежала!
– По подземному ходу? – не поверил парень.
– Этот особняк строили вместе с храмом и тогда же заложили подземный ход между ними.
– Так ты поэтому в подвал побежала, чтобы через подземный ход уйти?
– Нет, так случайно получилось, я хотела в кабинет директора попасть, чтобы милицию вызвать, но замок заело, и я побежала в подвал, а там случайно на дверь в подземный ход наткнулась. Мне очень повезло, что ты на выручку прибежал. Спасибо тебе огромное, Саня! – Света обняла парня, из ее глаз потекли слезы. – Если бы не ты и отец Михаил… Не знаю, что со мною было бы…
Саня стоял слегка растерянный и легонько поглаживал девушку по спине. Вдруг он весело засмеялся.
– А мы только на улицу вышли, и тут к нам из церкви идет этот священник, ну как его… отец Михаил! И как давай Николая Петровича отчитывать за то, что мы тебя напугали! Даже Иосиф Маркович покраснел! Мне Николай Петрович велел остаться, чтобы перед тобой извиниться и помочь порядок навести. Просил, чтобы ты милицию не вызывала, и обещал, что он этого придурка сам накажет.
– Не очень-то я ему верю после всего случившегося! – Света с сомнением покачала головой. – Это он, скорее, перед отцом Михаилом да перед Иосифом Марковичем себя выгораживал! Ну пойдем посмотрим, что там в подвале творится!
Они спустились в подвал и попробовали поаккуратнее расставить все железки и старую мебель, на которую Саня уронил Соплю. Заодно девушка показала дверь, за которой открывался узкий ход в храм. Увидев этот ход снова, Света поежилась:
– Все, пойдем отсюда! Не могу больше здесь находиться!
Расставив вещи в подвале, они вернулись наверх и прошли в кабинет со Светиным столом. Саня уже успел поднять уроненный Соплей телефон, его вилка была воткнута в розетку, но сам аппарат стоял не совсем так, как утром. Поправив его, Света подняла трубку и проверила работу. Трубка отозвалась непрерывным монотонным гудением. Все в порядке, аппарат не пострадал. Тут Светин взгляд упал на лежащие на столе бутерброды, и девушка вспомнила, что ей сегодня так и не удалось пообедать.
– Птицын, ты чай будешь?
– Какой же дурак станет отказываться от чая! Да вдобавок если его предлагает симпатичная девушка, да еще и одноклассница, да еще и сотрудница музея! Свет, ты же сотрудница музея?
– Ага, на преддипломной практике здесь!
– А с Николаем Петровичем у тебя что за дела?
– Нет у меня с ним никаких дел! – Света повернулась спиной, ставя электрочайник.
– Ну ты к нему на завод на прошлой неделе приходила…
– Подставил он меня, да и не только меня… – Света повернулась лицом и скрестила руки на груди. – Мы с ним общаться стали пару недель назад… Ну так, гуляли по вечерам вместе… А здесь в музее ремонт нужен, Гнедых вроде помогать начал, специалиста этого привез, Иосифа Марковича. Его фирма помогла смету составить, только там цена получилась, как за космический корабль, и директору музея в управлении культурой сказали, что таких денег у города нет и вряд ли в ближайшее время они появятся. Тут мне Гнедых и говорит, что надо создать общественный резонанс и написать письмо в газету – у него там есть нужные связи, помогут опубликовать. Ну я, дура, и написала!
– Почему дура? Вроде, все логично!
– Логично-то, может быть, и логично, только в «Челябинском пульсе» не такая статья появилась, которую я ожидала. У меня тут, кстати, есть номер, – Света нашла газету со злополучной статьей и, развернув ее на нужной странице, передала парню. – Вот, прочитай, если хочешь!
Пока Саня изучал статью, она разлила по кружкам кипяток и добавила в каждую по небольшой щепотке заварки.
– Так Николай Петрович хочет, чтобы это здание к нему перешло?! – видимо, Саня дошел до конца статьи.
– Вот-вот! – подтвердила девушка. – И Иосиф Маркович сегодня приходил для того, чтобы понять, можно ли на второй этаж джакузи установить!
– Какой еще джакузи?
– Ванная такая большая с пузырьками. Очень модная сейчас. Галина Евгеньевна, директор музея, с давлением лежит после этой статьи, и я тут одна была и не захотела их пускать. Они все равно пошли, и я решила вызвать милицию, вот Гнедых на меня Соплю и натравил!
– Блин, а ведь в подвале, когда Николай Петрович на нас кричать стал, этот придурок начал лепетать, мол, вы же сами сказали, а Николай Петрович на него еще больше наорал!
– Саш, а как ты к нему в охранники попал?
– Да само как-то получилось… Я как осенью дембельнулся, погулял пару недель и пошел на литейный устраиваться. Хотел слесарем-электриком, но в отделе кадров как узнали, что я только что из армии, предложили в охрану завода пойти, ее как раз набирали. Ну я и согласился. Под Новый год первую зарплату получил, – Саня откусил кусок от бутерброда и запил его чаем. – А несколько недель назад меня к себе вызывает Сергеич, начальник охраны. Смотрю, у него на столе папка с моим личным делом лежит. Он меня начал расспрашивать, занимался ли я каким-нибудь спортом и где служил. Много вопросов задавал о том, приходилось ли в армии пользоваться оружием и в какие ситуации я в Таджикистане попадал. У нас в охране он так несколько человек вызывал, всех, кто в каких-нибудь переделках побывал: Ванька Сомова, он после Абхазии, и Тимура Хатонова после Приднестровья. В начале прошлой недели снова меня вызвал и сказал, что есть предложение перейти мне в личную охрану Николая Петровича. Я возражать не стал, и меня прикрепили к Олегу. Хотя, может быть, после сегодняшнего еще и открепят… Лишь бы совсем не уволили, разрешили назад в охрану или лучше в слесари-электрики!
– Не нравится тебе в охране?
– Да как сказать… Странно как-то… Ведь раньше завод работал без всякой охраны. Сидели бабки на проходной и пропуска проверяли, и порядок был! Бывало, конечно, что народ тащил с работы что ни попадя, так ведь на то и завод, даже поговорка такая была: «Неси с завода каждый гвоздь, ты тут хозяин, а не гость!» Главное, что завод от этого беднее не становился! А теперь нас в охране работает больше двадцати человек, по периметру камеры для наблюдения устанавливают, в караулке девять телевизоров в три ряда стоит, чтобы весь периметр просматривать. А рабочие при этом жалуются, что оборудование никто обновлять не собирается!
– А с Олегом тебе как работается? Он, похоже, не из разговорчивых?
– Да, болтать он не любит, говорит, только если что-то по делу нужно. Но мужик настоящий! Он у Николая Петровича уже два года водителем работает и охранником. У Гнедых дача на Северном есть, так Олег еще и за ней успевает присматривать. Там собака дом охранять помогает, здоровенная такая кавказская овчарка, Юлаем зовут. Олег этого Юлая со щенячьего возраста воспитывает, и тот слушается его беспрекословно. Позавчера мы туда поехали, так Юлай меня чуть не съел, но Олег его моментально остановил… А коттеджик там хороший, двухэтажный, шеф там иногда переговоры устраивает с гостями.
Света вспомнила, как она вместе с компанией одноклассников после окончания девятого класса ездила отдыхать на дачу к Димке Кабанову. Дача представляла собой небольшой сколоченный из строительных щитов домик, расположенный в дачном поселке Северный всего в нескольких километрах от города.
Чтобы как-то решить продовольственную проблему и разнообразить жизнь людей, советское правительство во времена Хрущева распорядилось наделять желающих городских жителей небольшими земельными участками, на которых разрешалось выращивать овощи, ягоды и фрукты. Чтобы исключить возможность коммерческого использования выделяемых участков и не допустить их перерастание в фермерские хозяйства, всячески подчеркивалось, что собираемые плоды можно использовать только в личных целях, размер участка не должен превышать шести соток, и на выделенной земле запрещалось строительство каких-либо капитальных сооружений.
Катав-Ивановск стоял среди гор, и окружающие его земли никак нельзя было назвать урожайными: чтобы к концу лета снять урожай некрупных яблок и груш требовалось проявить большое искусство, а вызревание мелкой вишни казалось почти волшебством. Однако, чтобы перестраховаться, власти Катав-Ивановска нарезали участки таким образом, что их площадь не превышала пять соток. На этих клочках земли люди стали возводить небольшие дощатые домики и сарайчики, кое-кто решился на то, чтобы строить домик из кирпича или шлакоблока. Воспетое Чеховым слово «дача» в городе не прижилось, вместо него горожане стали называть свои наделы садами-огородами.
В тот июльский вечер Димка Кабанов устроил для одноклассников экскурсию по окрестностям своего садово-огородного домика, и все с любопытством изучали шедевры современного советского зодчества. Помнится, Димка с особой гордостью показывал двухэтажный кирпичный домик, принадлежавший семье секретаря горисполкома Петра Андреевича Гнедых. С Димкиных слов, секретарь любил приезжать сюда на выходные на черной райисполкомовской «Волге» с водителем.
Вспомнив все это, Света усмехнулась – ведь со слов Николая примерно в те же годы, пока его папа с товарищами воплощал идеи советской власти в маленьком Катаве, его сын с друзьями, обучаясь на юридическом факультете, барыжил винилом и джинсами в большом Свердловске.
Эх, все-таки распад Советского Союза не был случайным процессом! Совершившие Революцию большевики были людьми стальной воли, которые смогли воспитать верящих в идеалы отцов детей. Да только это поколение было выкошено страшным серпом гитлеровских пулеметов и закатано в землю катками чехословацких танков со свастикой на броне. В детях фронтовиков еще горел огонь их дедов, но они зачастую росли в семьях без отцов и не смогли передать всю полноту большевистской идеи своим детям. Внуки фронтовиков Великой Отечественной и правнуки героев гражданской войны уже не понимали, зачем сражаться с идеями капитализма. Более того, они сами захотели стать капиталистами…
В вестибюле хлопнула входная дверь, и Света вышла посмотреть, кто это пришел. Она почти не удивилась, увидев отца Михаила.
– Ну как ты тут? – улыбнулся священник. – Дай, думаю, посмотрю, что тут у вас происходит! Не ушел твой охранник?
– Нет, мы чай сидим пьем! Пойдемте с нами! – отозвалась девушка.
При виде отца Михаила Саня поднялся и стал спешно собираться:
– Я, пожалуй, пойду, мне еще в охрану заглянуть надо.
– Оставайся, еще чайку попьем! – стала отговаривать его Света.
– Посидел бы еще, стульев на всех хватит! – поддержал девушку священник.
– Нет, мне действительно пора! Свет, я на днях загляну! – Саня вышел из музея и быстро прошел мимо окон.
– Похоже, я спугнул вашего кавалера. Извините, если не вовремя, но мне действительно захотелось убедиться, что у вас все в порядке.
– Ну что вы! Я вам так благодарна за сегодняшнее! Так я чай вам наливаю?
– Наливай, только без сахара!
Света поставила перед ним кружку с чаем, отец Михаил сделал несколько больших глотков и спросил:
– Так значит ты диплом пишешь? Интересно, на какую же тему?
– Про восстание Емельяна Пугачева в наших краях.
– Вот как! – настоятель посмотрел в окно, из которого открывался вид на его храм и в задумчивости проговорил. – Как же все совпало… Очень интересно!
– Интересно, но только материала очень мало! Мне надо прям про наш завод, а в музее про это почти ничего нет!
– Да, в музее совсем нет документов тех лет…
Света вспомнила, как директор говорила о том, что местный священник что-то искал в архиве.
– Отец Михаил, Галина Евгеньевна говорила, что вы иногда приходите в музей поработать с документами. Если не секрет, что вы ищете?
– Конечно, не секрет, я собираю все возможные материалы по нашему храму: старые описания, рисунки и фотографии. Мечтал в музее отыскать строительные чертежи, да видно не судьба!
– А зачем вам строительные чертежи? Не для того же, чтобы второй подземный ход найти?
– Нет, конечно! – на лице настоятеля появилась грустная улыбка. – Хотя подземные ходы сооружения, без сомнения, интересные и через них в церковь иногда приходят интересные люди, но у нашего храма не хватает куда более важной части…
– Колоколен! – догадалась девушка. – Вы хотите восстановить снесенные колокольни!
– Да, если на то будет Божья воля, я хотел бы, чтобы у храма Иоанна Предтечи вновь появились колокольни! Света? А, вы знаете историю Иоанна Предтечи?
– Не совсем… – замялась Света. – Он вроде бы был одним из апостолов и потом написал «Евангелие от Иоанна».
– Ну вот, выпускница исторического факультета не может ответить на вопрос, на который раньше с легкостью давал ответ любой гимназист! Вот к чему привели годы безбожия… – отец Михаил покачал головой и тяжело вздохнул, после чего продолжил. – «Евангелие от Иоанна» написал Иоанн Богослов, тот самый, что написал «Апокалипсис». Иоанн Богослов действительно был одним из двенадцати апостолов, но не надо его путать с Иоанном Предтечей, которого сам Христос называл самым первым среди рожденных меж людьми. Иоанн Предтеча, или , как его еще называли, Иоанн Креститель, приходился Христу троюродным братом и был на полгода старше. Он начал проповедовать раньше Иисуса и в своих проповедях готовил людей к встрече с мессией, при этом он крестил людей, окуная их в воду. Когда Христу исполнилось восемнадцать лет, он тоже принял крещение от Иоанна в водах реки Иордан. Для всех других обряд крещения означал смывание всех грехов, но Иисус был безгрешным, и крещение для него означало уравнивание со всеми людьми и готовность принять на себя их грехи…
Священник сделал шумный глоток чая, девушка слушала его с большим интересом. Она много раз замечала за собой, что для понимания того или иного контекста исторического события ей не хватало знания православной религии и истории церкви, поэтому сейчас рассказ отца Михаила воспринимался девушкой как интересная лекция профессора.