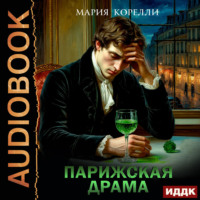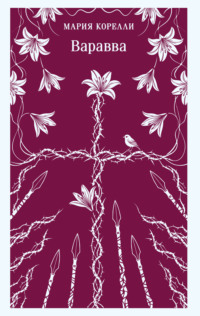Полная версия
Вендетта. История одного позабытого

Мария Корелли
Вендетта. История одного позабытого
Marie Corelli
VENDETTA. A STORY OF ONE LONG FORGOTTEN
1886
Перевод с английского Юлии Моисеенко
Литературная редактура Марины Стрепетовой
© Моисеенко Ю., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *Предисловие
Дабы читатели следующих страниц не сочли эту историю лишенной всякого правдоподобия, следует, пожалуй, предупредить: основные изложенные в ней события имели место в действительности, а точнее, в Неаполе во время последней ужасной вспышки холеры в тысяча восемьсот восемьдесят четвертом году. К сожалению, неверные жены, как прекрасно знаем все мы, ежедневно читающие в газетах новости, встречаются с пугающей частотой, угрожающей спокойствию и доброму имени нашего общества. А вот чтобы оскорбленный муж решился вершить правосудие собственными руками – такое увидишь не каждый день: в Англии, например, подобная дерзость была бы, без сомнения, расценена как преступление куда более тяжкое, нежели то, что обрекло его на страдания. Однако в Италии все обстоит иначе: там уверены, что ни волокитчики-бюрократы, ни мямли-присяжные из «специальных комиссий» не в состоянии возместить по заслугам за попранную честь и запятнанное имя супруга. И потому – к добру или к худу, решайте сами – итальянцы нередко совершают странные и жуткие деяния, о которых миру ничего не известно, а когда те все-таки выходят на свет, люди слушают о них с изумлением и недоверием. И все же сюжеты, рожденные воображением романиста или драматурга, бледнеют перед сюжетами жизни – той самой, которую принято называть обыденной, но которая на деле изобилует трагедиями столь же великими, мрачными и душераздирающими, как те, что вышли из-под пера Софокла или Шекспира. Нет ничего причудливее истины, и порой ничего ужаснее тоже нет!
Мария Корелли. Август, 1886Глава 1
Эти строки пишет для вас мертвец. Я мертв согласно закону, тому есть неоспоримые доказательства, я почил и погребен! Спросите обо мне в моем родном городе – вам ответят, что я пал жертвой холеры, опустошившей Неаполь в тысяча восемьсот восемьдесят четвертом году, и что прах мой истлевает в родовой усыпальнице. И все же я жив! Горячая кровь струится по моим жилам – кровь тридцатого лета, в расцвете мужественности, бодрит меня, делая взор острым и ясным, мускулы – крепкими, точно сталь, хватку – могучей, а прекрасно сложенный стан – прямым и гордым. Да! Я жив, хотя и объявлен мертвым; жив, полон сил, и даже горе оставило на мне лишь один отличительный след. Мои волосы, некогда черные как смоль, побелели, словно альпийский снег, хотя густые кудри по-прежнему вьются.
– Наследственная особенность? – предполагает один из врачей, вглядываясь в мои подернутые инеем пряди.
– Внезапное потрясение? – спрашивает другой.
– Воздействие сильного зноя? – подсказывает мне третий.
Я никому не даю ответа. Лишь единожды нарушил молчание – поведал свою историю незнакомцу, встреченному волею случая, мужчине, слывшему искусным лекарем и человеком широкой души. Он выслушал меня до конца с явным недоверием и беспокойством, после чего намекнул на помрачение рассудка. С тех пор я молчал.
Но сегодня пишу. Смело излагаю истину, сбежав от любых преследований. Могу обмакнуть перо в собственную кровь, если пожелаю – и никто не дерзнет возразить! Меня окружает зеленое безмолвие южноамериканских лесов – величавое, царственное молчание нетронутой природы, едва-едва нарушаемое грубой поступью цивилизации. Здесь, в прибежище совершенного покоя, тишину смущает разве что шелест крыльев, нежные птичьи трели да ропот вольных ветров, то грозный, то ласковый. Здесь, в этом благословенном краю безмятежности, я поднимаю свое кипящее сердце, словно переполненную ритуальную чашу, и изливаю его на землю до последней капли горечи. Пусть мир узнает мою историю.
«Мертв, но все-таки жив! Как же это возможно?» – спросите вы. О друзья мои! Если желаете наверняка избавиться от усопших родственников, предайте их тела огню. Иначе бог весть что может случиться. Кремация – лучший способ, единственно верный. Чистый. Надежный. Так стоит ли обращать внимание на предрассудки? Ужели не благороднее предать прах того, кого мы любили (или притворялись, что любим), очищающему огню и ветру, нежели заточить его в каменный склеп или в жадную сырую утробу земли? Ибо земля скрывает во чреве своем отвратительных тварей, безымянных и омерзительных, – там ползают длинные черви, сплошь покрытые слизью, с невидящими глазами и ненужными крыльями; порождения ядовитых испарений – насекомые-уродцы, чей вид, о нежные женщины, поверг бы вас в истерику, а вас, о крепкие мужи, заставил бы содрогнуться! Но есть ужас и горше сих осязаемых мерзостей, причиной которых становится пресловутое «христианское погребение» – это ужас неведения. Что, если потом, когда тесный и крепко сколоченный гроб с телом дорогого покойника уже помещен нами в склеп или же опущен в сырую яму; что, если потом, когда мы облачились в траурные одеяния, тужась изобразить на лицах выражение благочинной скорби; что, если, говорю я, в итоге всех этих наших предосторожностей окажется недостаточно? Что, если темница, куда мы ввергли оплаканного, не столь крепка, как нам по наивности мнилось? Что, если крепкий гроб будет с яростью и бешенством разломан его же руками, что, если усопший друг наш отнюдь не усопнет, а, подобно древнему Лазарю, восстанет и снова взыщет нашей любви? Не пожалеем ли мы тогда с запоздалой горечью, что пренебрегли огнем, столь действенным древним средством? Особенно если унаследовали мирские блага от столь искренно оплаканного! Ибо все мы лицемерим сами перед собой: редкое сердце способно испытывать настоящую скорбь, редкий из нас хранит в сердце искру истинной нежности. А между тем как знать? Быть может, мертвые жаждут большего сожаления, нежели мы с вами смеем вообразить!
Но обращусь к моему повествованию. Я, Фабио Романи, недавно почивший, намерен изложить события одного краткого года – года, в котором сгустилась мука целой истерзанной жизни! Один малый год! Единственный острый удар кинжала Времени! Он пронзил мое сердце – рана все еще зияет и кровоточит, и каждая капля, упавшая из нее, сочится ядом!
Впрочем, одно страдание, знакомое многим, обошло меня стороной: речь о бедности. Я родился богатым. Когда отец мой, граф Филиппо Романи, скончался, оставив меня, семнадцатилетнего юношу, единственным наследником своих обширных владений и главой могущественного рода, многие «доброжелатели» с присущим им радушием предрекали мне наихудшую участь. Более того, находились и те, кто с неким злорадным ожиданием взирал на грядущее крушение моего тела и разума – и то были особы почтенные! Их связи блистали респектабельностью, слова их имели вес, и какое-то время я служил мишенью их благочестиво-злорадных опасений. По их расчетам, мне надлежало стать игроком, мотом, пьяницей, неисправимым негодяем наихудшего толка. И все же – странно сказать! – ничем таким я не стал. Истинный неаполитанец, со всем пылом страстей и горячей кровью моего рода, я все же питал врожденное презрение к низменным порокам и пошлым вожделениям черни. Игра представлялась мне безумной горячкой, вино – губителем здравого смысла, а беспутная расточительность – издевательством над бедняками. Я избрал свой путь – золотую середину меж простотой и роскошью, мудрое смешение домашнего уюта с легким и задушевным светским общением – ровное течение разумного бытия, не истощающее ни дух, ни тело.
Я проживал на отцовской вилле, в миниатюрном дворце из белоснежного мрамора, возвышавшемся над Неаполитанским заливом среди вечнозеленых древесных крон. Владения мои окаймлялись душистыми рощами апельсинов и миртов, где сотни соловьиных голосов слагали под золотой луной полнозвучные любовные серенады. Искрящиеся фонтаны вздымались и ниспадали в каменные чаши, украшенные причудливой резьбой, а их прохладный ропот смягчал знойное безмолвие летнего воздуха. В этом убежище провел я несколько блаженных лет, окруженный книгами и полотнами, посещаемый друзьями – юношами, чьи вкусы сроднились с моими, равно способными оценить древний фолиант и букет редкого вина.
Женского общества я чурался. Словно некий инстинкт влек меня прочь от него. Родители, лелеявшие брачные чаяния для своих дочерей, зазывали в гости; как правило, я отметал подобные приглашения. Мудрые книги предостерегали от женских козней, и я внимал их советам. Данная склонность делала меня посмешищем в глазах влюбчивых приятелей, но все их шутки о моей «слабости» не трогали сердца. Я верил в дружбу более, чем в страсть, и к тому же имел товарища, за которого, не задумываясь, отдал бы свою жизнь. Гвидо Феррари, так его звали, порой вместе с прочими подтрунивал над моей «боязнью юбок».
«Фи, Фабио! – восклицал он. – Ты же не вкусишь жизни, пока не пригубишь нектар алых уст! Не разгадаешь тайны далеких звезд, покуда не утонешь в бездонном сиянии девичьих очей! Не познаешь восторга, пока не обнимешь гибкий стан и не услышишь, как страстное сердце бьется в унисон твоему! Долой твои затхлые фолианты! Поверь мне: скорбные философы древности были обделены мужской силой, в их жилах текла вода вместо крови, а вся их хула на женщин – лишь брюзжание обиженных неудачников. Кто сам утратил главный дар бытия, тот охотно убеждает других в его ничтожности. Да как же ты, с этим острым умом, этим блеском взора и гибким станом, как смеешь чураться любовных турниров? Помнишь, что написал Вольтер о слепом божестве?
«Qui que tu sois voila ton maitre,Il fut – il est – ou il doit etre!»[1]Он все это говорил, а я лишь улыбался в ответ. Речи его не убеждали, зато как сладостно было внимать голосу звучному, словно трель дрозда, и любоваться взором, красноречие которого затмевало любые слова. Любил я его – бог свидетель! – без корысти, всей душой, той редкостной нежностью, что порою связывает отроков, но увядает с годами. Общество его было для меня счастьем, как, по всей видимости, и мое для него. Дни наши текли неразлучно: подобно мне, он рано осиротел и волен был избрать путь по сердцу. Друг мой предался занятиям живописью, но, хотя его талант признавали, оставался столь же бедным, сколь я – богатым. Я как мог исправлял эту опрометчивость фортуны, осыпая его заказами, но действуя продуманно и деликатно, дабы не возбудить подозрения, не задеть его гордости. Меня по-настоящему сильно влекло к нему: сходство вкусов, родство душ – ничего более я и не мог желать, кроме его доверия и дружбы.
Но смертному не дано бесконечно вкушать блаженство. Рок прихотлив, он не терпит застоя. Взгляд, жест, слово – пустяк! – и вот уже рвется цепь былого, а мир, казавшийся нерушимым, рассыпается прахом. Вот и меня настигла подобная перемена. Помню ясно, как теперь: это было в Неаполе. Стоял знойный вечер конца мая тысяча восемьсот восемьдесят первого года. Я провел день на яхте, лениво бороздя залив под слабо надутым парусом. Отсутствие Гвидо (он уехал в Рим на несколько недель) обрекло меня на одиночество. Когда суденышко мое причалило, на сердце легла тоска – смутная, необъяснимая. Матросы, едва ступив на берег, разбрелись по кабакам и притонам, но мог ли я так легко развеяться? Множество знакомых водилось у меня в этом городе, однако сейчас меня мало влекли их забавы. Я брел по главной улице, размышляя, не вернуться ли пешком в свою обитель на холмах, как вдруг услышал пение и заметил вдали мерцание белых одеяний. Шел май, месяц Девы Марии, и я решил, что приближается процессия в ее честь. Я замер на месте – наполовину из праздности, наполовину из любопытства. Пение нарастало; вот уже стали видны священники в ризах, мальчики-прислужники, золотые кадила, извергающие душистый дым, трепет свечных языков, белоснежные покрывала детей и девушек… И вдруг передо мной словно закружился вихрь сияния и красок, а из него, будто звезда из облака, проступил лик! Лик, осененный янтарными прядями, озаренный детской прелестью – нежный, как утренняя роза, с устами, что улыбались то лукаво, то кротко, с очами бездонными, черными, как южная ночь! Я смотрел и не мог отвести восхищенного взора: увы, красота делает глупцами всех нас! Эта женщина (из числа тех, кого я чуждался) была юна, словно первый весенний листок. Лет шестнадцати от роду, никак не старше. Ее покрывало – то ли случайно, то ли умышленно – ниспало на плечи, и я молниеносно впитал всей душой этот пленяющий взор, эту колдовскую улыбку! Шествие двинулось дальше, видение растаяло, но за короткий миг одна эпоха моей жизни канула в вечность – и началась другая!
* * *Разумеется, я женился на ней. Мы, неаполитанцы, не теряем времени в таких делах. Нам чужды расчеты. Это у англичан холодная кровь, а наша – горячая, словно вино и солнце, – струится по жилам стремительно, не требуя искусственных возбудителей. Мы любим, жаждем, обладаем – что же потом? Устаем, вы скажете? Южные натуры непостоянны? Заблуждение! Усталость наша не столь велика, как вам мерещится. А разве англичане не знают скуки? Разве их не гложет тайная тоска у семейного очага, рядом с дородными женами и множащимся потомством? Еще как! Но они слишком благоразумны, чтобы признать это.
Нет нужды описывать ухаживания; они были кратки и сладостны, как идеально спетая песня. Преград не возникло. Избранница моя оказалась единственной дочерью опустившегося флорентийского аристократа, кормившегося за игровыми столами. Поскольку девушку растили в монастыре со строгим уставом, мирская скверна была ей неведома. «Невинна, как цветок у алтаря Мадонны», – уверял меня ее отец, утирая сентиментальные слезы. Я верил: ну что могла знать эта юная тихая красавица хотя бы о призрачной тени порока? Я жаждал сорвать и гордо носить на груди столь прекрасную лилию – а отец охотно отдал ее, несомненно, ликуя в душе из-за выгодной партии для своей бесприданницы.
Мы обвенчались на излете июня, и Гвидо Феррари почтил заключение нашего союза своим восхитительным благородным присутствием.
– Клянусь телом Бахуса! – воскликнул он по завершении церемонии. – Ты усвоил мои уроки, Фабио! Вот он, тихий омут, где водятся черти! Ларец Венеры отныне пуст: ты похитил ее прекраснейший самоцвет, заполучив красивейшую деву обеих Сицилий!
Я пожал руку друга, ощутив легкий укол совести: ведь он уже не был первой моей привязанностью. Представьте, даже в самый разгар торжества я почти сожалел об этом и оглядывался на недавнее прошлое, вздыхая о том, что все позади. Тут взгляд мой упал на Нину, мою супругу. Этого было достаточно! Ее красота ослепляла. Влажный блеск ее огромных глаз проникал прямо в кровь, заставляя забывать обо всем на свете. Я пребывал в том исступлении страсти, когда любовь казалась единственным смыслом мироздания. Я достиг вершины блаженства: дни казались пиршествами в волшебной стране, ночи – упоительными грезами! Нет, я не ведал усталости! Красота жены не меркла, но с каждым днем обладания все ярче цвела для меня. Я находил ее неотразимой – и не иначе; через несколько месяцев она изучила мою природу вплоть до потайных уголков. Она узнала, как одним лишь ласковым взглядом приковать к себе, сделав меня покорным и верным рабом; измерила глубину моей слабости и собственную женскую силу; поняла… да чего только не поняла! Впрочем, я напрасно терзаю себя глупыми воспоминаниями. Любой мужчина старше двадцати лет испытал на себе власть женских уловок – милых пустячков, что подтачивают волю и силы даже отважнейшего героя. Любила ли она меня? О да, полагаю! Оглядываясь назад, могу честно сказать: она любила – как девятьсот жен из тысячи любят мужей, то есть за то, что могут от них получить. А я не скупился. Если я собственными руками сотворил из Нины кумира, возвел в ранг ангела, тогда как она оставалась обычной женщиной – виновата не она, а моя собственная недальновидность.
Наш дом был всегда открыт для гостей. Наша вилла стала местом встреч для сливок высшего общества Неаполя и окрестностей. Жену мою боготворили, ее прекрасный облик и изящные манеры обсуждала вся округа. Гвидо Феррари, мой друг, восхвалял ее громче прочих, а его рыцарское обхождение удваивало мою к нему привязанность. Я доверял ему как себе; он приходил и уходил по своему усмотрению, подносил Нине цветы и изысканные безделушки, обращаясь с ней, словно почтительный брат. Я считал свое счастье совершенным – имея любовь, богатство и дружбу, чего еще может желать человек?
Но даже и в этой сладостной чаше нашлось место новой капельке меда. В первое утро мая тысяча восемьсот восемьдесят второго года родилось наше дитя – дочь, прекрасная, как белые анемоны, густо покрывавшие в ту пору леса вокруг нашего дома. Я завтракал с Гвидо на затененной веранде, когда мне принесли крошечный сверток в пеленке из мягкого кашемира, богато расшитого старинным кружевом. Я бережно взял хрупкое создание на руки; девочка распахнула глаза – огромные и темные, как у Нины, будто сохранившие в своей чистоте отблеск рая. Я поцеловал малютку; Гвидо последовал моему примеру. Спокойные ясные глазки смотрели на нас с полувопросительной серьезностью. Птица на ветке жасмина запела тихую мелодию; легкий ветер развеял у наших ног лепестки белой розы. Я вернул дитя няне, ожидавшей у двери, и с улыбкой произнес:
– Передай моей жене: мы приветствуем наш майский цветок.
Когда служанка удалилась, Гвидо, побледневший до чрезвычайности, положил руку мне на плечо.
– Ты славный малый, Фабио! – отрывисто сказал он.
– В самом деле? Чем заслужил? – спросил я, смеясь. – По мне, так не лучше прочих.
– Зато менее подозрителен, чем большинство мужчин, – ответил он, отвернувшись и теребя ветку клематиса, обвивавшую колонну веранды.
Я удивленно взглянул на него.
– Что ты хочешь сказать, дружище? Как будто мне нужно кого-то подозревать!
Он рассмеялся и вернулся за стол.
– Конечно, нет! – промолвил он с искренним видом. – Просто в Неаполе воздух пропитан подозрениями: кинжал ревности, необязательно даже справедливой, всегда наготове. Тут и дети – уже знатоки порока. Кающиеся исповедуются священникам, которые сами хуже закоренелых грешников, и – ей-богу! – в обществе, где супружеская верность – фарс… – Он сделал паузу, затем продолжил: – …разве не чудо встретить человека вроде тебя, Фабио? Человека, счастливого в семейной любви, без единой тучки на небосклоне доверия?
– Мне некого и не в чем подозревать, – возразил я. – Нина так же невинна, как дитя, которое она сегодня произвела на свет.
– Верно! – воскликнул Феррари. – Точнее не скажешь! – и пристально посмотрел на меня, улыбаясь. – Белее девственных снегов на вершине Монблана, чище безупречного алмаза, недоступнее далекой звезды! Правильно говорю?
Я кивнул, чуть нахмурившись; что-то в его тоне смутило меня. Разговор вскоре перешел на другие темы, и я забыл об этом. Но пришло время – и очень скоро, – когда мне довелось с горечью вспомнить каждое его слово.
Глава 2
Все хорошо помнят, каким выдалось неаполитанское лето тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года. Газеты всего мира пестрели ужасными заголовками. Холера бродила по улицам, словно демон-губитель; десятки людей, молодых и старых, пали от ее смертоносного прикосновения. Грязь и преступное пренебрежение санитарными нормами позволяли болезни распространяться с чудовищной скоростью. Но хуже этого была всеобщая паника. Неподражаемое мужество короля Умберто вдохновляло образованных горожан, однако среди неаполитанской бедноты царили животный страх, дикие суеверия и откровенный эгоизм. Вот случай, который красноречиво иллюстрирует происходившее в те дни. Одного рыбака, известного в округе красавца и балагура, холера скосила прямо в лодке. Его принесли к материнскому дому. Старуха, зловещая карга, увидев приближающихся носильщиков, мгновенно захлопнула и заперла перед ними дверь.
– Пресвятая Мадонна! – завизжала она в приоткрытое окно. – Бросьте его на улице, подлеца! Неблагодарная свинья! Вздумал притащить заразу в дом честной труженицы! Святой Иосиф, зачем вообще плодить детей? Бросьте его на улице, слышите!
Уговаривать фурию было бесполезно. По счастью, сын уже не приходил в сознание. После недолгой перепалки его оставили на пороге, где он вскоре скончался. А тело, словно какой-нибудь мусор, вывезли на телеге могильщики.
Жара в городе стояла невыносимая. Небосвод превратился в раскаленный сияющий купол, а недвижные воды залива – в огромное блестящее зеркало. Тонкая струйка дыма над Везувием только усиливала впечатление невидимого огненного кольца, будто бы крепко сжавшего город. Даже птицы не пели – разве что поздним вечером, когда в моих садах соловьи заливались волшебными трелями, не то радостными, не то печально-задумчивыми. На той высоте, где я обитал среди пышных древесных кущ, воздух был сравнительно свеж. Я предпринял все необходимые меры, чтобы обезопасить свой дом и челядинцев от заразы. Мог бы и вовсе уехать оттуда, если бы не понимал, что при поспешном бегстве всегда есть возможность нечаянно соприкоснуться с больными. Впрочем, жена моя хранила самообладание – не такое уж редкое, по моему разумению, качество для красавицы. Их непревзойденное тщеславие – отличный щит от холеры, ведь оно устраняет главный элемент опасности – страх. Что касается нашей Стеллы, двухлетней малышки, то она росла здоровым ребенком, и ни я, ни моя жена не испытывали за нее ни малейшего беспокойства.
Гвидо Феррари приехал и поселился с нами. В то время как холера выкашивала неряшливых горожан целыми сотнями, точно спелую кукурузу, мы трое с небольшой свитой слуг, которым категорически запретили посещать город, питались хлебом из наших мучных запасов и дистиллированной водой, регулярно принимали ароматные ванны, рано вставали, рано ложились спать и могли похвастать отменным здоровьем.
Моя супруга помимо прочих достоинств обладала красивым, превосходно поставленным голосом. Она пела с изысканной выразительностью и часто по вечерам, когда маленькая Стелла уже спала, а мы с Гвидо курили в саду, Нина, подобно чудесному соловью, услаждала наш слух, исполняя одну за другой все эти старинные сторнелли и ритурнелли – народные напевы, исполненные дикой и страстной красоты. Гвидо нередко подхватывал, и тогда его бархатный баритон сливался с ее звонким сопрано, словно журчание фонтана – с птичьими трелями. Я до сих пор, точно в насмешку, слышу их сплетенные воедино голоса; в воздухе плывет тяжелый аромат цветущих апельсинов, смешанный с запахом мирта; желтая луна висит в густой синеве, точно золотой кубок короля Туле, брошенный в морскую пучину[2]. Я снова вижу два склоненных друг к другу силуэта, светлый и темный – моей жены и лучшего друга. Тех, чьи жизни оценивал в миллион раз дороже собственной. О, то были счастливые дни – дни самообмана, как это всегда и случается. Мы редко благодарим тех, кто нас пробуждает от грез, а ведь именно они – наши истинные друзья, если вдуматься.
Август воистину увенчал то ужасное неаполитанское лето. Холера наступала неумолимо, люди словно обезумели от страха. Некоторые горожане, охваченные диким бесстрашием, погрязали в оргиях и пьянстве, наплевав на последствия. Одна из таких безумных попоек случилась в известном трактире. Восемь молодых людей в компании восьми ослепительных красавиц заказали отдельный зал, где им подали роскошный ужин. В конце вечера один из гостей поднял бокал и провозгласил: «Да здравствует холера!» Тост был встречен буйными криками одобрения. Все выпили под радостный гогот. В ту же ночь каждый из гуляк скончался в муках. Их тела, по обычаю, втиснули в дешевые гробы и сбросили в общую яму, вырытую наспех. До нас ежедневно доходили мрачные истории подобного рода, но мы не поддавались унынию. Стелла стала нашим живым оберегом от заразы; ее невинные шалости и болтовня наполняли дни весельем, создавая вокруг не только телесно, но и душевно здоровую атмосферу.
Однажды утром – самым знойным за весь тот палящий август – я проснулся раньше обычного. Намек на прохладу в воздухе заставил меня подняться и выйти в сад. Жена спала крепко. Я тихо оделся, не потревожив ее, и, уже направляясь к двери, по какому-то наитию обернулся, чтобы взглянуть на нее еще раз. Как же она была прекрасна! Как улыбалась во сне! Сердце забилось чаще: вот уже три года эта женщина принадлежала только мне, и страсть моя лишь росла с каждым днем. Я поднял и нежно поцеловал золотистую прядь волос, рассыпавшихся по подушке. А потом – не подозревая, что ждет меня впереди, – осторожно вышел.
Легкий ветерок приветствовал меня, пока я неспешно прогуливался по садовым дорожкам. Его дуновение едва шевелило листву, но солоноватый привкус в воздухе освежал после тропического зноя минувшей ночи. В те дни я увлекался трудами Платона и теперь, шагая, размышлял о возвышенных идеях и загадках, предложенных великим философом. Погруженный в глубокие, но приятные мысли, я зашел дальше, чем намеревался, и оказался на давно заброшенной тропе – извилистой дорожке, ведущей вниз, к гавани. Тень и прохлада манили, и я почти машинально продолжил путь, пока меж листвы не блеснули мачты с белыми парусами. Я уже хотел повернуть назад, как вдруг услышал звук – глухой стон, свидетельствовавший о чьих-то ужасных муках. Обернувшись, я увидел лежащего ниц на траве мальчишку – торговца фруктами, лет двенадцати. Рядом валялась корзина с соблазнительной грудой персиков, винограда, гранатов и дынь – красота, столь опасная в холерные времена. Я тронул его за плечо.