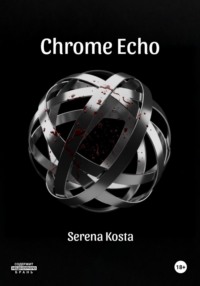Полная версия
Хромированное эхо
– Добро пожаловать домой, Оливия.
Она промолчала, обводя взглядом свою тюрьму.
Позолоченная клетка. Самая красивая и дорогая, какую только можно было представить. Клетка, в которой прутья сделаны из света, а замок – из эстетики.
Он, казалось, прочитал её мысли. Или, что более вероятно, ожидал именно этой реакции – он планировал это, просчитывал, как режиссёр планирует каждую сцену.
– Здесь есть несколько правил, – произнёс он, и его голос приобрёл новое качество. Не угрожающее, а обучающее. Голос наставника, который объясняет правила игры новичку. – Они простые. Я не люблю сложные правила – их трудно соблюдать, а значит, легко нарушить. А нарушения требуют наказаний, а наказания… отвлекают от главного.
Он прошёлся по комнате, его пальцы скользили по спинке дизайнерского кресла – чёрная кожа, хром, острые углы.
– Первое: ты не пытаешься уйти. – Он произнёс это так обыденно, как будто говорил о погоде. – Территория охраняется. Электроника, датчики движения, камеры. Люди. Много людей, которые получают очень хорошие деньги за то, чтобы следить, чтобы то, что принадлежит мне, оставалось со мной.
Он остановился у панорамного окна, силуэт против света.
– Попытка побега будет расценена как нарушение нашего… соглашения. – Слово «соглашение» прозвучало с тонкой иронией. – И повлечёт за собой последствия. Не для тебя напрямую – я не варвар, Оливия. Я не бью женщин. Я не причиняю физическую боль без необходимости. Но я помню Мари. Ты помнишь Мари?
Оливия кивнула – медленно, чувствуя, как холод сжимает внутренности.
– Хорошо. Значит, мы понимаем друг друга.
Он повернулся, пошёл дальше. Его шаги по мраморному полу – чёткие, ритмичные, как удары метронома – отсчитывали правила, как статьи уголовного кодекса.
– Второе: ты не запираешь двери. – Он остановился, дав этому правилу осесть. – Никакие двери. Спальня, ванная, гардеробная – не важно. Я должен иметь доступ в любую часть дома в любое время. Включая твою спальню. Включая твою ванную. Включая моменты, когда ты думаешь, что имеешь право на уединение.
При этих словах по спине Оливии пробежал холодок – не от страха физического насилия, а от чего-то более глубокого. От понимания, что приватность, последний бастион личности, будет стёрт. Что границы, которые определяют, где заканчивается «я» и начинается «другой», будут растоптаны.
Но она заставила себя сохранить невозмутимое выражение лица. Не дать ему увидеть трещину.
Не сейчас. Сломаешься позже, в одиночестве.
– И третье, – он подошёл к ней. Не вплотную – оставил расстояние в вытянутую руку. Достаточно близко, чтобы она чувствовала его присутствие как физическую силу, но достаточно далеко, чтобы не быть откровенно угрожающим.
Его глаза – зелёные, холодные, красивые – смотрели прямо в её, не мигая, не отводя взгляда. Гипнотизировали.
– Ты будешь делать то, что я скажу. – Голос стал тише, интимнее. – Есть со мной, когда я захочу компанию. Говорить со мной, когда я захочу разговора. Молчать, когда я захочу тишины. Ты больше не хозяйка своей жизни, Оливия. Твоё расписание, твои решения, твой день – всё это теперь определяю я.
Он сделал паузу, и в тишине, которая повисла между ними, можно было услышать далёкое пение цикад за окном, монотонное, бесконечное, как звук самого лета.
– Это не значит, что я буду требовать невозможного. Я не садист. Я не получаю удовольствия от бессмысленных унижений. Но я ожидаю подчинения. Абсолютного. Беспрекословного. Потому что каждый раз, когда ты не подчиняешься, ты задаёшь себе вопрос: достаточно ли важно моё сопротивление, чтобы рисковать жизнью Мари? Или жизнью следующей пешки на доске?
Вот он. Момент истины.
Момент, когда он ждал, что она сломается окончательно. Заплачет. Начнёт умолять. Упадёт на колени. Превратится в ту сломленную, рыдающую жертву, какую он, вероятно, видел раньше.
И именно в этот момент Оливия нашла в себе силы для первого ответного хода.
Она подняла на него глаза – не покорно, не испуганно – с презрением. Чистым, незамутнённым презрением, которое было острее любого оскорбления.
– Вы можете запереть моё тело в этом доме, – её голос звучал ровно и твердо, как звон хрусталя, который ещё не разбили, но уже ударили. – Вы можете угрожать всему, что мне дорого. Вы можете контролировать каждый мой шаг, каждый вдох, каждую секунду моего существования. Вы можете превратить меня в марионетку.
Она сделала шаг к нему – один, маленький, но это было её движение, её решение.
– Но вы никогда не будете хозяином моей души. – Слова были тихими, но абсолютными. – Вы можете владеть моим временем. Моим телом. Моими действиями. Но то, что я думаю, когда смотрю на вас. То, кем я остаюсь внутри, когда вы отворачиваетесь. Та часть меня, которую вы пытаетесь достать, препарировать, понять – она всегда будет за пределами вашей досягаемости.
Она подняла подбородок – древний жест гордости, который женщины делали перед эшафотом, перед колесницами завоевателей, перед тиранами всех эпох.
– Запомните это.
На долю секунды – короткую, как вспышка молнии – в его глазах промелькнуло удивление.
Он не ожидал отпора. Не так скоро. Не с такой силой.
Он ожидал сломленную женщину. Испуганную. Покорную.
А получил противника.
И это ему – к её ужасу, смешанному с чем-то более сложным – понравилось.
Удивление сменилось хищным блеском. Азартом охотника, который понял, что добыча окажет сопротивление. Что охота будет интересной. Что победа будет заслуженной.
Он усмехнулся – не издевательски, а с чем-то похожим на… уважение?
– Вот как? – произнёс он медленно, смакуя слова. – Дух ещё не сломлен. Хребет ещё держит. Интересно.
Он обошёл её по кругу – медленно, оценивающе, как скульптор обходит мраморную глыбу, прикидывая, где будет первый удар резца.
– Мы ещё посмотрим, где заканчивается твоё тело и начинается твоя душа, chérie. – Французское слово прозвучало насмешливо и нежно одновременно. – Граница не такая чёткая, как тебе кажется. Тело и душа соединены тысячью нитей. Потяни за одну – и другая дёрнется. Согни одну – и другая искривится. Сломай одну…
Он не закончил фразу. Не нужно было.
Он развернулся и кивнул в сторону коридора, ведущего вглубь дома.
– Твоя комната – вторая дверь слева. Всё необходимое там есть. Одежда твоего размера, косметика, всё, что может понадобиться. Я не хочу, чтобы ты чувствовала себя… обделённой.
Ирония в последнем слове была очевидна.
– Ужин в девять. Будь готова. Мы будем есть вместе. Я хочу узнать тебя лучше, Оливия Дюран. Хочу понять, что скрывается под этим безупречным фасадом. Хочу найти трещины. А я всегда нахожу трещины. Это мой талант.
С этими словами он оставил её одну посреди огромного, стерильного пространства.
Звук его шагов – удаляющихся, затихающих – отдавался эхом в пустоте. Затем дверь где-то в глубине дома закрылась. Тихо, но окончательно.
И Оливия осталась одна.
Она медленно прошла в указанную комнату. Коридор был длинным, белым, освещённым скрытыми светильниками, которые создавали иллюзию, что свет исходит из самих стен. Абстрактные картины на стенах – чёрные мазки на белом фоне, агрессивные, нервные. Ничего успокаивающего. Ничего красивого в традиционном смысле.
Вторая дверь слева.
Она толкнула её – дверь открылась беззвучно, на идеально смазанных петлях.
Спальня была огромной.
Кровать размера king-size с простынями цвета слоновой кости – высокого качества, египетский хлопок, плотность плетения, которую можно было определить на ощупь. Прикроватные тумбочки из тёмного дерева. Лампы с абажурами из матового стекла.
Панорамное окно во всю стену с видом на закатное небо над виноградниками. Сейчас, в начале вечера, свет был золотым, медовым, почти нереальным в своей красоте. Контраст с тем, что происходило внутри комнаты – внутри её – был почти жестоким.
Гардеробная.
Оливия открыла раздвижную дверь.
И замерла.
Внутри висели десятки нарядов. Платья, блузы, брюки, юбки. Всё от брендов, которые она любила: Loro Piana, Brunello Cucinelli, The Row, Max Mara. Цветовая гамма – та, что она предпочитала: нейтральные тона, бежевый, серый, чёрный, изредка тёмно-синий. Ничего яркого, ничего кричащего. Всё элегантное, дорогое, со вкусом.
Всё её размера.
Она провела рукой по ткани – кашемир, шёлк, качественная шерсть. Проверила бирки. Всё новое. Не ношенное. Куплено специально для неё.
Он изучал её. Долго. Тщательно.
Знал её стиль. Её размеры. Её предпочтения в брендах, в крое, в цветах. Это было не просто предугадывание – это было знание. Знание, которое приходит только с длительным наблюдением.
Сколько времени он следил за ней? Месяцы? Годы?
Мысль заставила кожу покрыться мурашками. Ледяными, неприятными, как прикосновение мёртвых пальцев.
Он хотел, чтобы она чувствовала себя комфортно в своей тюрьме. Хотел стереть различие между «до» и «после». Хотел, чтобы капитуляция была незаметной, постепенной, как медленное погружение в тёплую воду, из которой не замечаешь, как она становится горячее, горячее, пока не начинаешь вариться.
Нет.
Оливия закрыла дверь гардеробной. Резко. Звук был громким в тишине комнаты – маленький акт сопротивления, но единственный доступный.
Она не станет играть в эту игру. Она не наденет его одежду. Она не примет его дары. Она не станет благодарной пленницей, которая ценит позолоту своих цепей.
Она проигнорировала шёлковые платья и мягкий кашемир.
Вместо этого она прошла в ванную комнату – мрамор, хром, огромная ванна с видом на виноградники через стеклянную стену – и приняла душ. Горячий. Почти обжигающий. Пытаясь смыть ощущение его рук на своей коже, его взгляда, который оставался даже когда он отворачивался.
Она вышла, вытерлась мягким полотенцем (конечно, идеально мягким, конечно, дорогим), и надела тот же наряд, в котором приехала – элегантные бежевые брюки и шёлковую блузу цвета экрю. Они были помяты после долгой дороги, но это был её выбор. Её одежда. Её последний клочок прежней жизни.
Это была её униформа. Её броня.
И она не снимет её добровольно.
Ровно в девять – по тихому сигналу часов на прикроватной тумбочке, который прозвучал как начало раунда на ринге – она вышла из комнаты.
Он уже ждал её в столовой.
Помещение было продолжением гостиной – открытое пространство, разделённое только визуально. Длинный стол из цельного куска тёмного дерева – орех, может быть, или венге, – отполированный до зеркального блеска. Два стула друг напротив друга. Не рядом, не под углом – именно напротив, как противники на допросе.
И за панорамным окном – угасающий Прованс, погружающийся в бархатную синеву ночи. Первые звёзды уже проступали на потемневшем небе.
Он стоял у окна с бокалом красного вина в руке – тёмное стекло, благородная форма, вино цвета запёкшейся крови. Свет от скрытых светильников очерчивал его силуэт, превращал его в что-то между человеком и тенью.
Он переоделся. Простые чёрные брюки, тёмная рубашка с закатанными рукавами, расстёгнутая у ворота. Без пиджака, без галстука. Неформально. Но от этого ещё более опасным – его сила больше не была скована рамками делового костюма. Она была обнажена. Видна. Неизбежна.
– Пунктуальность – вежливость королей, – сказал он, не оборачиваясь. Голос был спокойным, почти довольным. – И, как выясняется, заложников. Садись.
Его голос был ровным, но Оливия уловила в нём нотку одобрения. Он заметил. Заметил, что она осталась в своей одежде. Понял её безмолвный протест.
И это его… позабавило? Заинтересовало? Уважение хищника к добыче, которая показала зубы?
Она села, положив руки на колени под столом – жест контроля, самообладания. Спина прямая. Подбородок высоко. Взгляд прямой.
Я не сломлена. Не ещё.
На столе уже стояли тарелки. Белый фарфор, простой, элегантный. Еда была произведением искусства – ризотто с трюфелями, украшенное тонкими лепестками пармезана, которые закручивались, как лепестки розы. Микрозелень. Капля оливкового масла, золотая на белизне фарфора.
Аромат был божественным – грибы, сливки, умами трюфелей, что-то ещё, может быть, белое вино в соусе.
Но кусок не лез в горло. Желудок был сжат в кулак. Тошнота подкатывала волнами.
Он сел напротив. Его движения были точными и экономичными – ни одного лишнего жеста, ни секунды потерянного времени. Он двигался, как фехтовальщик, как хирург, как кто-то, кто довёл владение своим телом до уровня искусства.
Он наполнил её бокал вином – тем же самым, что пил сам. Красное, густое, почти чёрное. Наливал медленно, наблюдая, как жидкость закручивается в бокале.
– Châteauneuf-du-Pape, – пояснил он, ставя бутылку на стол. Этикетка была старой, почти выцветшей. Урожай давний. Дорогой. – 1998 год. Надеюсь, ты оценишь. Я помню, ты предпочитаешь вина долины Роны. Grenache в бленде – твой фаворит, если не ошибаюсь.
Сердце Оливии пропустило удар.
Откуда он мог это знать?
Она упоминала это единожды – в малоизвестном интервью для специализированного журнала об искусстве два года назад. Маленькая статья, которую прочли, может быть, пятьсот человек. Вопрос был случайным: «Что вы предпочитаете пить на открытиях?» И она ответила, не думая: «Вина Роны, особенно с Grenache. Там есть земля, солнце, история».
Он не просто изучал её.
Он препарировал её жизнь. Читал каждое интервью. Изучал каждую публичную фотографию. Знал больше о ней, чем она сама помнила.
– Что это за спектакль? – спросила она, игнорируя вино. Её голос звучал ровнее, чем она ожидала. Холоднее. – Изысканный ужин. Дорогое вино. Разговоры о моих предпочтениях. Вы похитили меня. Угрожаете людям, которых я знаю. И теперь играете роль… чего? Гостеприимного хозяина?
– Это не спектакль, – ответил он, пробуя ризотто. Жевал медленно, оценивая. Кивнул себе одобрительно. – Это ужин. Я хочу узнать тебя лучше.
– Вы уже знаете обо мне достаточно, – отрезала она. Гнев начал прорываться сквозь холодный фасад, как лава сквозь трещину в земле. – Чтобы похитить меня. Чтобы разрушить мою жизнь. Чтобы знать, какие бренды я ношу, какое вино я пью, в какой комнате моей галереи лучший свет. Что ещё вам нужно? Мою группу крови? Моё любимое число?
Он медленно – очень медленно, с издевательской неторопливостью – донёс вилку до рта. Проглотил. Вытер губы тканевой салфеткой. И только потом посмотрел на неё.
Посмотрел так, как энтомолог смотрит на редкое, ядовитое насекомое под стеклом. С интересом. С восхищением. Без страха.
– Мне не интересны поверхностные факты о тебе, Оливия, – сказал он, откладывая вилку. – Размер одежды, предпочтения в еде, привычки – это данные. Информация. Я могу купить информацию. Я могу украсть её. Я могу получить её от людей, которые работали с тобой, от твоих друзей, от твоего бывшего мужа, который, кстати, оказался на удивление разговорчивым, когда я намекнул, что могу простить часть его долга в обмен на… подробности.
Он взял бокал, повертел его, наблюдая, как вино скользит по стенкам.
– Мне интересно другое. – Голос понизился, стал почти философским. – Твой отец был человеком, который верил только в бетон и сталь. В то, что можно измерить в тоннах и евро. Он презирал всё эфемерное. Искусство для него было инвестицией, не радостью. Красота – валютой, не ценностью. Он строил дома, но никогда не строил домов – понимаешь разницу? Дома с маленькой буквы, где живут. Где любят. Где плачут и смеются. Он строил активы.
Пауза. Он отпил вина.
– Так почему ты, его дочь, его кровь, его воспитанница, выбрала… красоту? – Вопрос прозвучал искренне заинтересованным. – Почему галерея, а не строительная империя? Почему искусство, а не деньги? Почему ты предала его философию?
Вопрос застал Оливию врасплох.
Он копал глубже, чем она думала. Он пытался понять не её действия, а её мотивацию. Не что она делает, а почему. Пытался найти код, который расшифрует всю её личность.
И самое страшное – вопрос был правильным.
Она молчала долго, глядя на нетронутую еду на своей тарелке. На идеальные завитки пармезана. На золотую каплю оливкового масла, которая ловила свет, как слеза.
– Потому что красота – это единственное, что имеет смысл в жестоком мире, – ответила она наконец, сама удивляясь своей откровенности.
Слова вырвались помимо воли, из того места, где она прятала правду даже от себя.
– Отец строил дома, в которых никто не был счастлив. Богатые дома. Дорогие дома. Пустые дома. Я работала в его офисе два года после университета – он настоял, сказал, что я должна понять семейный бизнес. И я видела чертежи. Видела проекты. И все они были одинаковыми – максимум квадратных метров, минимум души. Места, где люди существуют, но не живут.
Она подняла на него глаза.
– Искусство – это другое. Искусство не нужно для выживания. Не нужно для прибыли. Оно нужно для того, чтобы помнить, что мы люди. Что есть что-то большее, чем квартальные отчёты и процентные ставки. Красота – это доказательство, что не всё можно измерить в деньгах.
Она замолчала, понимая, что сказала слишком много. Открылась слишком сильно.
– Ответ, который отец бы счёл очередным доказательством моей слабости, – добавила она тише. – Он всегда презирал то, что нельзя было выразить в цифрах. Называл искусство «хобби для богатых бездельников». А меня – идеалисткой, которая разочаруется, как только столкнётся с реальностью.
– Мир не жесток, – возразил он, отпивая вино. – Он практичен. Жестокими его делают слабые люди, которые не могут принять его правила и начинают винить мир в собственных неудачах. Сильные же просто используют эти правила в своих интересах. Не борются с гравитацией – строят самолёты. Как ты думаешь, к кому из них отношусь я?
Это был вызов. Тест. Он хотел, чтобы она признала его силу. Признала, что он прав, а она – наивна.
– Вы относитесь к тем, кто считает, что сила даёт им право на всё, – ответила Оливия, не отводя взгляда. – Но это иллюзия. Любая сила имеет предел. Любая империя рушится. Любой тиран падает. Это тоже правило мира – вы просто пока не столкнулись с ним.
– Правда? – Он отложил вилку и подался вперёд, опираясь локтями на стол.
Расстояние между ними было метр, может, чуть больше. Но казалось, что он снова стоит вплотную, что его присутствие заполняет всё пространство, вытесняет воздух.
– А где твой предел, Оливия? – Вопрос прозвучал почти нежно. – Где та черта, за которой безупречная владелица галереи исчезнет, и появится просто женщина? Женщина, готовая на всё, чтобы выжить? Женщина, которая забудет о красоте и морали, когда выбор будет между жизнью и смертью? Между собой и другими?
Его голос понизился, стал обволакивающим, почти гипнотическим:
– Мне не терпится это выяснить. Найти эту черту. Подвести тебя к ней. Посмотреть, что ты выберешь, когда все иллюзии исчезнут.
Он говорил о её уничтожении так, словно обсуждал десерт. С предвкушением. С лёгкой улыбкой. С интересом гурмана, который собирается попробовать редкое блюдо.
Оливия почувствовала, как по телу разливается ужас – холодный, вязкий, парализующий.
Но смешанный с чем-то ещё. Чем-то тёмным, порочным, о чём она не хотела думать.
С возбуждением.
Не сексуальным – не ещё, не сейчас – а первобытным. Возбуждением человека на краю пропасти. Возбуждением жертвы, которая почувствовала, что хищник видит в ней не еду, а достойного противника.
Она была на краю пропасти, и часть её, к собственному стыду и ужасу, хотела заглянуть вниз. Хотела узнать, что там, в темноте. Хотела понять, где проходит эта черта, о которой он говорил.
Нет. Это он. Он делает это с тобой. Манипулирует. Ломает защиты.
Оливия заставила себя взять бокал. Её пальцы слегка дрожали – едва заметно, но он, конечно, заметил. Он замечал всё.
Она сделала маленький глоток.
Вино было великолепным. Сложным, многослойным – спелая вишня, кожа, табак, что-то землистое, минеральное, вкус самого Прованса, солнца и камней, вековых лоз, впитавших всю мудрость этой земли. Оно обожгло горло и прояснило мысли.
Якорь к реальности.
– Вы так и не ответили ни на один мой вопрос, – сказала она, глядя ему прямо в глаза поверх бокала. – Кто вы? У вас есть имя? Или я должна придумать его сама? «Похититель»? «Психопат»? «Человек с комплексом бога»?
Он откинулся на спинку стула, и на его лице появилась тень улыбки. Не издевательской – почти довольной, как у учителя, который понял, что ученик наконец задал правильный вопрос.
– Марк, – сказал он просто. – Марк Леблан. Хотя это имя мало что тебе скажет. Я не из тех, о ком пишут в Forbes или Figaro. Я предпочитаю тень.
Он взял свой бокал, повертел, наблюдая, как вино скользит по стенкам.
– Твой отец знал меня под другим именем. Тогда, тридцать лет назад, я был никем. Мальчишкой с улиц Марселя. Пятнадцать лет, без будущего, без перспектив. Воровал, чтобы есть. Дрался, чтобы выжить. Стандартная история для la Cité, северных районов – место, откуда не выбираются, а откуда убегают или умирают молодыми.
Его голос изменился – стал жёстче, как будто каждое слово царапало горло на выходе.
– И тогда меня подобрал он. Энцо Моретти. Мой учитель. Мой спаситель. Единственный человек, который увидел во мне не мусор, не статистику, не очередного потерянного подростка – а потенциал.
Марк сделал глоток вина. Долгий. Его взгляд был направлен куда-то в прошлое, в места, которые всё ещё причиняли боль.
– Энцо был гением, Оливия. Он построил свою финансовую империю с нуля – из ничего, из воздуха, из чистого интеллекта. Консалтинг, инвестиции, частный банкинг для людей, которые предпочитают оставаться невидимыми. Он научил меня всему. Не только стратегии, не только бизнесу. Он научил меня видеть красоту в логике. Элегантность в контроле. Поэзию в идеально выполненном плане.
Его пальцы сжались на ножке бокала – едва заметно, но Оливия видела напряжение.
– Он был для меня отцом. Настоящим отцом – не биологическим донором спермы, который исчез до моего рождения, а человеком, который научил меня быть человеком. Который показал, что я могу быть больше, чем улица хочет из меня сделать.
Пауза. Долгая. Тяжёлая.
– А твой отец уничтожил его.
Слова упали между ними, как камни в воду. Тяжёлые. Финальные.
– Методично. Хладнокровно. Используя закон как оружие – самое подлое оружие, потому что оно притворяется справедливостью. – Марк поставил бокал так резко, что вино плеснулось. – У Энцо и Жака была сделка. Партнёрство. Проект застройки на юге, миллиарды евро, десятилетия работы. Контракты были подписаны. Обязательства приняты. А потом твой отец просто… изменил условия. Переписал документы. Использовал юридические лазейки, коррумпированных судей, связи в правительстве. Сделал так, что Энцо выглядел мошенником, а сам – жертвой.
Его голос стал тише, но от этого ещё опаснее:
– И Энцо, сломленный, разорённый, униженный, умер через год. В нищете. В одиночестве. В маленькой квартире в Марселе, где пахло плесенью и поражением. Великий ум, который создал империю, закончил жизнь, питаясь хлебом и дешёвым сыром, потому что у него не осталось ничего.
Марк посмотрел на неё, и в его глазах была тьма – не метафорическая, а реальная, как будто что-то внутри поглощало свет.
– И перед смертью он сказал мне: «Никогда не доверяй партнёрам, Марк. И никогда не позволяй женщине стать твоей слабостью. Из-за них короли теряют всё». Он говорил о себе. О своих ошибках. О своей жене, которая ушла, когда деньги закончились. О людях, которых он считал друзьями и которые отвернулись, когда фортуна изменилась.
Марк встал. Подошёл к окну. Стоял спиной к ней, силуэт против ночного неба.
– Я обещал ему, что я не повторю его ошибок. Что буду сильным. Что отомщу. – Голос был ровным, но под ровностью чувствовалась сталь. – Я строил эту месть двадцать лет. Медленно. Терпеливо. Как строят соборы – камень за камнем, год за годом. Я ждал. Учился. Богател. Становился тем, кто может бросить вызов человеку уровня Жака Дюрана.
Он повернулся.
– И когда я был готов, когда план был идеален, когда каждая деталь была на месте… твой отец умер. – Усмешка без веселья. – Инфаркт. Быстрая смерть. Милосердная смерть, которую он не заслужил. Он ушёл, даже не зная, что кто-то идёт за ним. Не испытав страха. Не поняв, что такое – терять всё, что построил.
Марк вернулся к столу. Сел. Посмотрел на неё с такой интенсивностью, что Оливия почувствовала, как воздух сгущается.
– И тогда я понял. Понял, что такое настоящая, поэтическая справедливость. – Он наклонился вперёд. – Я не могу отомстить мёртвому. Но я могу отомстить его наследию. Его империя была продана. Его дома – снесены или перестроены. Его бизнес – растворился в других компаниях. Не осталось ничего. Ничего, кроме одной вещи.
Пауза.
– Тебя.