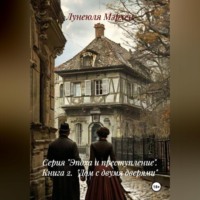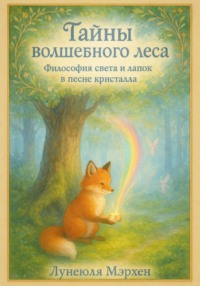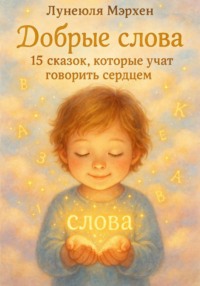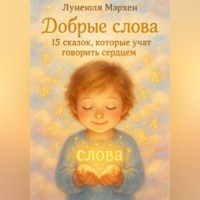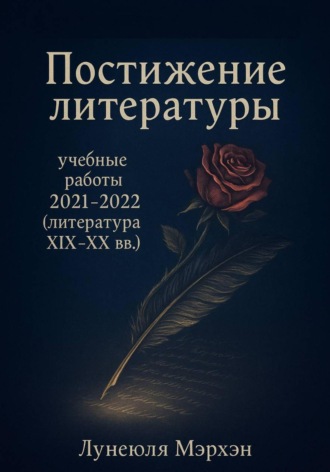
Полная версия
Постижение литературы: учебные работы 2021–2022 (литература XIX-XX вв.)
5. Роль фантастики в цикле «Петербургские повести» (на примере одного из произведений).
Гоголевская фантастика в «Петербургских повестях» несет на себе следы сказочной, мифологической и религиозной фантастики, но спроецирована она на современный город – Петербург, изображенный писателем фактографически точно, настолько точно, что местами это сближает гоголевские повести с очерками. Такая фантастика внедрена вглубь будничной повседневной жизни, она, по замечанию Ю. В. Манна, «уходит в быт, в вещи, в поведение людей и в их способ мыслить и говорить». Ее задачи конкретны и очевидны: она демонстрирует абсурдность реального мира, фантасмагоричность великого города, символа российской государственности, в пространстве которого человек теряет свою истинную суть. Он дробится, рассыпается, подменяется шляпками, бакенбардами, усами, талиями гуляющих по его главной улице («Невский проспект»). Здесь человек, как таковой, уже никому не нужен. Одним из наиболее частотных слов характерологического плана в «Петербургских повестях» является слово «странное» и производные от него. «Странное» – это форма проявления фантастики Гоголя, демонстрирующей мистику повседневной жизни современного человека. Особенно показательна с точки зрения «странности» повесть «Нос», которую Гоголь так и характеризует, как «необыкновенно-странное происшествие». На фоне остальных петербургских повестей, отмеченных неявной фантастикой, «Нос» является откровенно фантастической повестью. Ее сюжет завязан вокруг открыто фантастического, никакой логикой (даже фантастической) не мотивированного события. Это потеря носа коллежским асессором Ковалевым. Сквозным приемом здесь оказывается гротеск, деформирующий и смещающий реальные жизненные пропорции: нос отделяется от лица живого человека, появляется вначале в свежеиспеченом хлебе, после чего его топят в Неве, потом нос уже молится (!) в Казанском соборе, одетый в мундир высокопоставленного чиновника и даже имеет даже свое «лицо», которое прячет в «высокий стоячий воротник», затем нос зачем-то садится в дилижанс и едет в сторону рижской границы, где его ловят и возвращают хозяину «завернутым в бумажку» и т. д. и т. п.
Внешне фантастика «Носа» подчеркнуто алогична и абсурдна. «Нос» повествует о мистике чина, которая в повести проявляется в том, что часть лица, в данном случае нос, оказывается «выше» всего остального, «выше» самого человека, и лишь только потому, что нос при встрече с Ковалевым одет в мундир статского советника (5 чин), в то время как на хозяине носа всего лишь мундир коллежского ассесора (8 чин). То есть Ковалев ниже своего носа на целых три чина. Это и объясняет ту робость, с которой майор обратился к собственному носу, когда, встретившись с ним в Казанском соборе, попытался его вернуть на место.
6. Критика социальных противоречий в произведениях цикла «Петербургские повести» (на примере одной из повестей).
Критика социальных противоречий является одним из важнейших компонентов идейной направленности петербургских повестей. Эта критика напрямую связана с темой «маленького человека», имеющей не только морально-нравственный, но ярко выраженный социальный разворот. Так, в «Записках сумасшедшего» безумие/сумасшествие развивается в маленьком чиновнике Поприщине под сильнейшим влиянием «электричества чина». Герой задумывается, почему он всего лишь скромный титулярный советник. Опять же его мечты, толкающие его на путь умопомешательства, связаны с Невским проспектом – «главной витриной» Петербурга. Поприщин с его желанием проникнуть в «высшие сферы» регулярно «фланирует» по Невскому проспекту, и именно там он услышал «разговор двух собачонок» – «мещанской» Фидель и «аристократической» Меджи, чьей хозяйкой является директорская дочь, о которой мечтает герой. По мере того, как растет притязание Поприщина на «значительность», укрепляется его желание «ходить» по главной улице Петербурга: «Может быть я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником?». Узнав, что Испания осталась без короля, он убеждает себя, что он и есть испанский наследник престола. Сюжет повести по-гоголевски двоится, двойственные очертания приобретают и сами события (здесь Гоголь выступает безусловным «наследником» Гофмана). Герой начинает понимать язык животных, читать переписку собачек Фидели и Меджи, в которой пронизанный социальными условностями сословно-иерархический мир людей демонстрирует свою смешную, антигуманную, противоестественную природу. В финале читатель понимает, что Поприщин помещен в сумасшедший дом, где по время манипуляций над ним (льют на голову холодную воду), он «прорывается» к самому себе, к сознанию маленького человека, которому «никто не внемлет», никто не видит и не слышит, который ничего не имеет и не может никому ничего дать.
7. Поэма-повесть А.С. Пушкина «Медный всадник» и «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. В чем сходство и различие?
«Медного Всадника» принято называть поэмой, но Пушкин в подзаголовке обозначил его жанр, как «петербургскую повесть», заложив, тем самым, новую жанровую структуру, подхваченную Н. В. Гоголем и Ф. М. Достоевским. Важным моментом, на мой взгляд, позволяющим Пушкину назвать своего «Медного Всадника» «повестью» является то, что в центре повествования здесь стоит история обычного, ничем не примечательного человека. Пушкин в «Медном всаднике» вводит в «большую» литературу тему «маленького человека». Евгений, герой «Медного Всадника», вынужден ради куска хлеба служить мелким чиновником. Герой живет в предместье, в Коломне, он собирается жениться, завести детишек, а для этого нехитрого семейного счастья он готов «трудиться день и ночь».
Второй центральный герой «Медного всадника» – Петр Великий, выступающий как основатель Петербурга, как дерзостный творец, который «Россию поднял на дыбы», покоритель морской стихии, победивший ее дикость, равно как и дикость общественную, царь-плотник, прорубивший окно в Европу. Пушкин любуется Петром и его творением и заодно размышляет над существом и смыслом его реформ и над их последствиями. Пушкин впервые сталкивает в своей поэме как две равновеликие величины, властелина, царя, исторически значимую фигуру, и обыкновенного, ничем непримечательного жителя построенной Петром столицы, маленького человека в чиновничьей шинели. Евгений хотел бы стоять в стороне от большого мира, но не может, он волей-неволей вовлечен в водоворот истории. Малый человек, как бы говорит Пушкин,– не сторонний человек, он участник трагедии. Наводнение в городе, построенном на краю «бездны», вопреки природным стихиям, топит надежды Евгения, хоронит его мечты. Кто виноват? – вечный вопрос русской литературы. Наводнение или царь, построивший город «вопреки»? На первый взгляд – наводнение. Ведь не случись оно, все было бы согласно мечте Евгения: женитьба, служба, мирная жизнь. Но «Медный Всадник» среди множества своих смыслов имеет и такой: видимость и суть происходящего. Суть образов приводит читателя к выводу, что наводнение только ускорило то, что по воле сильных мира сего может в любой момент произойти с нами – «малыми величинами».
Гоголь в своих Петербургских повестях подхватывает тему Петербурга, открытую Пушкиным. Он развивает пушкинскую традицию изображения «маленького человека», ставя ее во главу угла своих повестей, развивая и углубляя в них социальные аспекты этой темы. В его повестях, в отличие от Пушкина с его одической традицией «Медного всадника», не представлена парадная, «казовая» сторона Петербурга, как дивного архитектурного творения. Гоголь сосредоточен на социальных контрастах города. Гоголевский Петербург – это город мелких чиновников, бедных художников, обывателей. Город раскрывается у Гоголя, по преимуществу, со стороны быта, который он выписывает фактографически очень точно и даже сочно, но с какими-то странными сдвигами, делающими Петербург «заколдованным местом», где нет места человеку как таковому, в его истинно человеческой ипостаси.
8. Гоголевский «смех сквозь слезы» в повестях, посвященных Петербургу (на примере одного из произведений).
В Петербургских повестях есть место не только откровенной сатире, нацеленной на фантасмагорию Невского проспекта, образ поручика Пирогова и его историю («Невском проспекте»), «страдания» коллежского ассесора Ковалева («Невский проспект») и похождения его Носа («Носа») и др., но и своеобразному гоголевскому комизму, который Гоголь сам, рассуждая о назначении смеха в связи с постановкой его комедии «Ревизор», назвал «смех сквозь слезы». Этот тип комизма амбивалентен, здесь оборотной стороной смеха оказывается глубокая грусть. По сути, гениальный Гоголь обнаружил общий источник смеха и слез. Не только над его «Ревизором», но и над событиями, разворачивающимися в «Шинели» и «Записках сумасшествия», можно одновременно смеяться и плакать. За нелепостью жизни, ее алогичностью, вызывающей смех, скрывается искажение подлинной человеческой природы. Башмачкин Гоголя, как и Поприщин, и комичен, и трагичен одновременно. Например, смешна и, в то же время, печальна история, разворачивающаяся вокруг пошива шинели Башмачкина, которая становится «идеальной целью», «озаряя» жизнь героя, согревая его духовно и наполняя его существование каким-то высшим смыслом.
И.А. Гончаров «Обломов»Роман «Обломов» является наиболее известным у автора и, фактически, вершиной его творчества. Соответственно, представляется целесообразным кратко проанализировать особенности работы автора над этим произведением, основную идею романа, а также то, как его восприняли читатели и сам автор.
И.А. Гончаров писал роман «Обломов» на протяжении 12 лет. На протяжении работы над своим произведением автор сомневался в том, получается ли у него, отразив свои сомнения в письме А. Краевскому: «… я увидел, что все это до крайности пошло…». Кроме того, на некоторое время работа над произведением была прервана на время кругосветного путешествия И.А. Гончарова на фрегате «Паллада», которое, кстати, легло в основу другого произведения с одноименным названием.
Тем не менее, в 1858 году роман был переписан заново, причем автор дополнил его множеством сцен, а также сократив отдельные моменты. В 1859 году роман увидел свет в первых четырех номерах журнала «Отечественные записки», мгновенно притянув к себе внимание общественности и став предметом горячих обсуждений среди читателей, литературных критиков и писателей.
Автор, по его собственным словам, пытался донести до читателей ответ на вопрос о том, что же собой представляет «обломовщина». Является ли она «золотым веком» или же гибельным застоем, ведущим к деградации человека и его медленному духовному умиранию.
Несмотря на то, что автор приходит к выводу о том, что «обломовщина» для человека фатальна, что она ведет его к гибели, причем не только к физической, но и духовной, роман, тем не менее, содержит очень небольшое количество сатирического отрицания, будучи наполненным, главным образом, добродушным юмором. Чувствуется симпатия автора к главному герою, причем эта симпатия ощущается даже в тех моментах, когда автор подтрунивает над Обломовым, и даже когда достаточно резко высказывается о его лени, инертности, нежелании взять за себя ответственность и выстроить свою жизнь так, чтобы она стала жизнью настоящего человека, а не медленным умиранием.
О том, что роман сразу же имел огромный успех, свидетельствует тот факт, что его первый тираж был мгновенно раскуплен. Романом зачитывались все прогрессивно мыслящие люди того поколения, соглашаясь с автором в том, что «обломовщина» гибельна, что она ни в коем случае не должна быть частью жизни любого мыслящего человека.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что И.А. Гончарову удалось в полной мере донести свою идею до читателей. А если принять во внимание тот факт, что роман продолжают читать и сегодня, то есть, спустя более полутора сотен лет с его первой публикации, то можно говорить о том, что он не утратил своей популярности и в наши дни. Каждый умный человек сделает правильные выводы из этого произведения, примерив «обломовщину» на себя, ужаснувшись и делая все возможное для того, чтобы жить, а не существовать, как это случилось с Ильей Обломовым.
Природа и человек в романе Обломов. Сочинение
И.А. Гончаров, будучи блестящим мастером описания быта и характеров персонажей, немалое значение уделял также и пейзажным зарисовкам, которые играют весьма значительную роль в романе «Обломов».
Описание пейзажей начинается уже с первых страниц романа. Так, к примеру, во сне Обломова можно видеть прекрасные пейзажи, которые олицетворяют счастье и безмятежность главного героя, когда он был ребенком.
Большое значение играет роль пейзажа и в процессе описания чувств героев. Так, к примеру, такая, казалось бы, незначительная деталь, как сорванная ветка сирени, очень много значит для повествования, поскольку именно с этой ветки и начинает зарождаться любовь между Ольгой Ильинской и Ильей Обломовым.
Начавшись весной, их любовь крепнет и развивается по мере того, как природа вступает в лето. Будучи все более и более влюбленными, Ольга и Илья замечают все больше деталей окружающего пейзажа: щебетание птиц, красоту летних дней, парение бабочек и дыхание цветом.
Однако, любовь между героями оказалась невозможной, и на исходе лета она заканчивается. Осень с ее яркими, но грустными красками увядания, которые столь мастерски описывает автор, является как бы свидетельством конца любви, которая так ни к чему и не привела. После того, как между Ильинской и Обломовым поставлена окончательная точка, выпадает снег, укрывая всю землю белой пеленой, глуша все звуки и скрадывая краски. Этот снег можно рассматривать как символ бесславного финала любви, которую Обломову в силу собственной лени и инертности не удалось удержать.
Также необходимо несколько слов сказать о кладбищенском пейзаже, который встречается в самом конце романа, то есть, уже после смерти Обломова. Пейзаж этот угрюм и печален, но его скрашивает ветка сирени, посаженная на могиле Обломова. И она же является символом новой жизни, которая продолжится в Андрее – сыне Обломова, взятого на воспитание четой Штольцев. Очень хочется надеяться, что судьба этого мальчика окажется более счастливой, чем у его отца, что Ольге и Андрею удастся вырастить из него настоящего человека: деятельного, активного, любящего жизнь и отрицательно относящегося к «обломовщине».
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что природа в романе «Обломов» выполняет множество функций, но основная из них – служить своеобразной декорацией, подчеркивающей чувства героев этого произведения, их мечты, стремления, горести и печали, их переживания и моменты счастья. И.А. Гончарову удалось сделать настолько прекрасные описания природы, что без них, вероятно, это произведение многое бы потеряло, а особенности характеров героев остались бы раскрытыми не до конца. Соответственно, можно говорить о том, что описания природы так же важны, как и остальные составляющие данного художественного произведения.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.