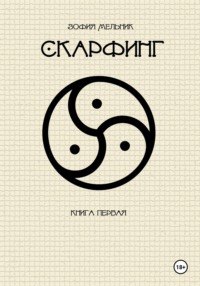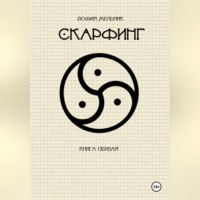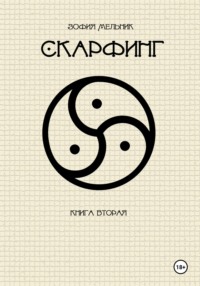Полная версия
Гувернантка. Книга вторая

Зофия Мельник
Гувернантка. Книга вторая
Когда я обнаружил в боли и даже в самом стыде примесь чувственности, я стал испытывать не страх, а скорее желание быть наказанным снова.
Жан-Жак Руссо
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Из окна спальни Арсению видно покойное летнее небо и макушки березок на ведущей к усадьбе аллеи. Воздух нынче необычайно прозрачен и неподвижен – на березах ни листика не шелохнется. Арсений лежит на кровати и глядит за окно, наверное, целую вечностью. Все эти дни, покуда его донимала лихорадка, в голове Арсения бормотали, читали нотации, яростно спорили и ругались друг с дружкой, декламировали поэмы без конца и начала знакомые и вовсе незнакомые голоса. И вот теперь этот неумолчный гул понемногу стихает. Волны жара больше не ходят по телу, и кости не ломит. Арсений чувствует себя измотанным и слабым, но определенно, идущим на поправку.
Он откидывает одеяло и садится на кровати.
Сильно кружится голова. Так называемая, действительность кажется ненадежной, обманной, готовой вот-вот опрокинуться и перевернуться вверх тормашками.
Дверь открывается, и в спальню заглядывает сенная девка в ситцевом будничном сарафане.
Арсений глядит на нее недоверчиво и хмуро.
– Арсений Захарович, это я – Ульяна, – говорит девица и быстро шагает через порог.
Ульяна подходит ближе, и Арсений узнает это округлое румяное лицо, русые косы и облупившийся от солнца нос картошкой.
– Вы, Арсений Захарович, сегодня на живого человека похожи, – говорит Ульяна и трогает ему ладошкой лоб. – И жара у вас нет.
Арсений проводит рукой по волосам и замечает, что волосы у него сальные и слиплись в какие-то сосульки. И сам он, наверное, ужасно грязный, и ночная рубашка пропиталась потом, а в спаленке душно и скверно пахнет.
Ему становится неловко.
– Ульяна, мне бы помыться.
– Баньку протопить? – спрашивает Ульяна.
– Нет, – подумав, отвечает Арсений.
После болезни он чувствует непривычную слабость в теле и боится, что до баньки не дойдет.
– Я бы в тетушкину ванну залез.
– Тогда нужно воды нагреть, – говорит Ульяна. – Ведра три. Я сейчас, мигом обернусь.
Ульяна быстро уходит, не затворив за собой дверь, Арсений глядит сенной девке вслед, а сам вспоминает, как Гликерии Павловне однажды вздумалось устроить в усадьбе водопровод, как в Санкт-Петербурге. Она даже заказала в столице внушительного размера чугунную ванну с ножками в виде львиных лап. Вода в ванну должна была подаваться по трубам с первого этажа, где планировалось оборудовать что-то вроде котельной. Ванну установили в комнате неподалеку от тетушкиной спальни и сделали слив, но дальше дело не пошло. Инженер, который взялся обустроить котельную, деньги понемногу пропил и сбежал восвояси в столицу. Стоит сказать, что тетушка не шибко расстроилась. Ванна ей очень нравилась, и она взяла моду в ней мыться, как столичные дамы, только вместо водопровода горячую воду носили в ведрах сенные девушки.
Когда шаги Ульяны стихают, Арсений, ухватившись за спинку кровати, осторожно поднимается на ноги и, пошатываясь, подходит к окну. Откинув шпингалет, Арсений, распахивает обе створки, ложится животом на подоконник и выглядывает наружу.
Воздух на улице пахнет скошенной травой и навозом, нагретой солнцем пылью, и какими-то полевыми цветами, и еще сотней запахов, которых ни в жисть не угадать.
Я был болен, напоминает сам себе Арсений.
В голове у него звенит солнечная пустота. И в этой пустоте будто скрывается, прячется что-то очень важное, о чем он позабыл, а теперь никак не может вспомнить. Так Арсений и стоит у окна, покуда в спальню снова не заглядывает Ульяна.
– Пойдемте, Арсений Захарович. Все готово.
На неверных ногах Арсений выходит в коридор.
– Вы на меня обопритесь, – говорит ему Ульяна.
Но Арсений, пошатываясь, идет сам, и лишь время от времени касается рукою стены. Ноги предательски дрожат, и каждый шаг дается с трудом.
– Неужто, это лихорадка там меня потрепала? Сил совсем нет…
– Она, лихоманка, – кивает Ульяна. – Доктор так и сказала – скифская лихорадка.
– Вот как, скифская, значит, – Арсений останавливается, чтобы перевести дыхание. – Признаться, я доктора совершенно не помню.
– А он один раз и приезжал. У вас был жар, вы тогда лежали в бреду. А доктор боялся заразиться и в спальню не заходил, так поглядел с порога. Он прописал вам хинин и тотчас уехал.
– Хинин, – повторяет Арсений и вспоминает стоящую на тумбочке склянку и тут же у него становится невыносимо горько во рту.
Стоя подле стены в сумрачном коридоре Арсений прислушивается к странной дремотной тишине стоящей в усадьбе.
– А почему так тихо?
– Так нет же никого, – отвечает Ульяна. – Новая хозяйка всех прогнала из усадьбы. Теперь живут в деревни. Остались только кухарка Матрена, ну, и я захожу прибраться.
– Какая еще хозяйка? – изумленно спрашивает Арсений. – О ком ты говоришь?
– Ну да, ну да, откуда же вам знать? Вы столько времени провалялись в бреду… А помните, что стало с тетушкой вашей Гликерией Павловной? Помните, как пришла телеграмма из Кисловодска? Вы в тот вечер и слегли с лихорадкой…
– Телеграмма. Тетушка, – повторяет Арсений и тут же вспоминает тот день и урок французского в беседке, и как ключница Серафима Ефимовна принесла телеграмму.
– Вашу тетушку, Гликерию Павловну, убило молнией посреди белого дня. Страсть-то какая! – восклицает Ульяна и торопливо крестится.
– Да, помню, – говорит тихо Арсений.
Нет больше Гликерии Павловны Балашовой. И нет больше прежней жизни, про которую думалось, что она неизменна и не будет ей конца. А новая жизнь еще не началась, только выступают из сумрака её нерезкие и размытые очертания.
Тетушки больше нет, повторяет Арсений и вспоминает доброе участливое лицо Гликерии Павловны, ее выцветшие глаза и седые собранные в пучок волосы, и ему становится горько от того, как часто он ее огорчал и платил неблагодарностью за ее безграничную доброту.
Арсений хмурится, украдкой вытирает выступившие на глазах слезы и, держась за стенку, бредет дальше по коридору…
Ванная комната невелика. Стены выложены изразцовой плиткой. Нижняя половина окошка задернута ситцевой занавеской в цветочек. А сама чугунная ванная гордо возвышается посреди, опираясь на когтистые львиные лапы. Из ванны поднимает пар, а подле стоит ведро с холодной водой, на случай, если покажется слишком уж горячо.
– Арсений Захарович, я вам чистое белье принесу, – говорит Ульяна и уходит.
ГЛАВА ВТОРАЯ
В горячей воде Арсений и вовсе слабеет, делается блаженным и сонным. Положив голову на покатый бортик чугунной ванны, он глядит, как ходит по стене лиственная тень, и вспыхивает на изразцовой плитке золотой солнечный свет. Арсений чувствует во всем теле болезненную истому. Он уходит под воду с головой, лежит на дне ванной и пускает пузыри. Потом выныривает, берет с подставки кусок мыла и намыливает голову.
Дверь открывается и в ванную комнату заглядывает Ульяна.
– Арсений Захарович, давайте я вам спину потру, – говорит сенная девушка.
И Арсений видит у нее в руках щетку на длинной удобной ручке.
– Ульяна не надо, я сам…
– Да вы не стесняетесь, – говорит Ульяна.
Озорно улыбаясь и опустив очи долу, сенная девка подходит к ванной и, намылив щетку, принимается тереть Арсению спину.
– Ох… – стонет Арсений и вертится в ванной, как шелудивый поросенок. – Ох, спасибо, Ульяна… Вот здесь еще потри, чуть пониже… Ага, а теперь левее, вот-вот…
– Пока вы болели, много чего случилось, – рассказывает Ульяна. – Объявилась сестра вашей тетушки – Анна Павловна. Они приехали с компаньонкой в усадьбу и живут уже вторую неделю.
– Какая Анна Павловна? – спрашивает растерянно Арсений и оглядывается на сенную девку. – Какая компаньонка?
– Та самая сестра Гликерии Павловны, которая пропала еще ребенком, – отвечает Ульяна. – Или вы, часом, позабыли?
– Нет, я не забыл. Тетушка частенько об этом рассказывала. Будто у нее была младшая сестра, которая потерялась, когда они ездили в Германию… Я уже решил, что это какая-то сказка.
Ульяна снова принимается намыливать щетку.
– Нет, Арсений Захарович, вовсе не сказка. Анна Павловна все это время жила в Германии, сперва в приюте, потом у приемных родителей…
– Да, вот так история!
– И не говорите!
Немного помолчав, Арсений спрашивает.
– И что же Анна Павловна?
– Чудные они, – отвечает сенная девка. – А её компаньонка еще чуднее.
– А что в ней чудного? – спрашивает с усмешкой Арсений.
– Волосы стрижет коротко, как мужчина. А еще у нее одна рука железная.
– Врешь, – говорит Арсений уверенно. – Ты что же, удумала надо мной смеяться?
– Вот те крест! – божится Ульяна. – Я сама видела, врать не стану! Рука механическая, из железа, а пальцы шевелятся, будто живые!
Арсений усмехается и качает головой.
Глядя на смуглое от загара оживленное лицо Ульяны, Арсений испытывает неловкость из-за того, что сидит голый в чугунной ванной, и его нагота прикрыта разве что мыльной пеной. А после ему живо вспоминается, как гувернантка наказывала его розгами на конюшне, а Ульяна подглядывала за ним через маленькое окошко, и в другой раз, когда Жанна Егоровна секла его в беседке, Арсений заметил сенную девку среди вишневых деревьев. Эти воспоминания понуждают Арсения испытать досаду и жгучий стыд. Но пережив малую толику душевных терзаний, Арсений с удивлением замечает, как его стыд делается сладким, будто восточные засахаренные сладости и превращается во что-то иное. Его член наливается кровью, твердеет, становится огромным, как кабачок и начинает причинять Арсению неудобства.
Он стонет, проводит мокрой рукой по лицу и тут внезапно вспоминает, то важное, о чем позабыл. И вспомнив, тот час пугается не на шутку, и с тревогой спрашивает Ульяну,
– Постой, а как же Жанна Егоровна?
– Анна Павловна ее сразу же рассчитала, – отвечает Ульяна. – И мадмуазель уехали в столицу… Я же говорю, Анна Павловна всех повыгоняла. Живут в усадьбе с компаньонкой вдвоем, как сычи.
– Уехала? – растерянно переспрашивает Арсений. – Как же так?… А я что же?
– А вы лежали с жаром, Арсений Захарович. Вы в себя не приходили, все время бредили. Все уже думали, прости господи, что вы помрете. Это я за доктором в город ходила, а он все ехать не хотел.
– Как же так… Как же так, – бормочет Арсений и с тревогой всматривается в лицо сенной девки. – Ульяна, а скажи мне, сколько же я промаялся с этой чертовой лихорадкой?
– Август вот-вот кончится, – говорит Ульяна, задумавшись. – Выходит, без малого месяц.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
– Видишь ли, какое дело, Лизонька, я попал в неловкое положение, – говорит Григорий Ипатович. – Я должен с тобой объясниться.
Нынче Григорий Ипатович избавился от долгополого купеческого сюртука, стоит сказать, порядком поношенного, а еще от картуза и сапог. Вместо этой привычной для Лизоньки каждодневной одежды, кузен нарядился в куртку из серого сукна, «французского» покроя мешковатые брюки и кожаные туфли на низком каблуке. Куртка сидит на кузене, будто влитая, да и туфли с квадратными мысами хороши. Если Лиза не путает, такие туфли вошли в моду только прошлым летом.
А кроме прочего, Григорий Ипатович коротко, на английский манер постриг бороду, и от этого кажется Лизе и вовсе чужим, незнакомым человеком.
– Диковинное дело! Я же знал, что с Максом ни в коем разе нельзя играть в карты, и все равно взялся играть, – рассказывает кузен. – А я, Лизонька, когда проигрываю, не могу остановиться, покуда не отыграюсь. Сам не свой делаюсь! Зора, верно говорит, что мне вовсе нельзя играть.
Лиза и Григорий Ипатович стоят на краю неухоженного сада среди молодых березок. Сквозь зелень листвы сквозит солнечный свет, крапчатые тени ходят по высокой траве.
– И что же, вы совершенно проигрались?
– Фантастически! – смеется Григорий Ипатович. – Проигрался в дым. Макс, не иначе, душу черту продал. Ну, не может так вести человеку!
– Что это за дикая мысль поставить меня на кон? – спрашивает Лиза, пытаясь казаться возмущенной и оскорбленной. – Как вам такое в голову пришлось, позвольте спросить?
– Да, прямо скажем, скверно получилось, – признается Григорий Ипатович. – Лиза, ты уж прости дурака! Ну, не мог я остановиться! А усадьбу и лошадей я к тому часу уже проиграл.
– Вам и верно нельзя играть в карты.
– Категорически нельзя, – соглашается Григорий Ипатович.
Лиза молча стоит, глядя промеж березовых ветвей, на освещенный утренним солнцем косогор за оврагом.
– Теперь, Лизонька, и судьба моя и честь – всё в твоих руках, – говорит ей кузен, и невесело усмехается в коротко остриженную бородку.
– Извольте сию минуту объяснить, что все это значит? – спрашивает барышня, не спуская глаз с тропинки, поднимающейся по косогору к еловому лесу. – Зора делала мне намеки, но я, признаться, не поняла…
На кузена Лизонька нарочно не глядит.
– Что ж, изволь…Ты сама видишь, к нам съехались гости, – говорит Григорий Ипатович в полголоса. – Нынче сам светлейший князь почтили визитом. А это, Лизонька, большая честь… Ну, разумеется, генерал-майор Измайлов тоже здесь. Лев Дмитриевич один из основателей Клуба. Поэта-символиста Тетерникова, ты, наверное, и сама узнала. А еще приехала прима-балерина Мариинского театра, да-да, сама госпожа Кшесинская… Я перед обедом вас всем непременно представлю… Ах, жаль, мой старый приятель, Виктор Старшинский не смог приехать! Нелепая история, право слово…
– А тот карлик, кто он? – вспоминает Лизонька о маленьком человечке в рясе, гулявшем спозаранку подле усадьбы.
– А, это Ян Гузик. Известный медиум, на него сейчас мода в столице. Он чех, кажется…
– А почему он в монашеской рясе?
Григорий пожимает плечами.
– Интересничает. Да-с… Словом, это и есть Клуб… И смею тебя заверить, Лизонька, в Клубе состоит куда больше людей. И люди это, как правило, весьма состоятельные, занимающие высокие посты, уважаемые и довольно известные.
– И что у вас за интерес?
– Смею тебя заверить, на собраниях Клуба не происходит ничего преступного. Мы не замышляем ни против царя, ни против господа бога, – рассказывает Григорий Ипатович, набивая трубку табачком из кисета. – А интерес, который всех нас объединяет, это… Это если угодно, порочное влечение, страсть к флагелляции. И эта страсть терзает каждого из нас с юных лет.
Григорий высекает кремнием искру и принимается, не торопясь, раскуривать трубку.
Барышня задумчиво молчит.
– Ты ведь знаешь, что означает это слово?
– Да, знаю, – отвечает Лиза и отчего-то на щеках ее вспыхивает румянец. – Это от латинского flagellatio, то есть бичевание.
Григорий Ипатович согласно кивает.
– И что же все эти господа, – растерянно спрашивает Лиза. – Все они любители порки? И даже эти дамы?
Она оборачивается и видит, как Григорий усмехается в бороду. Карие глаза кузена весело поблескивают сквозь пелену табачного дыма.
Лиза чувствует, смятение в душе, ей становится страшно и в тоже время волнительно.
Но ведь этого попросту не может быть, говорит себя барышня. Ни этого разговора, ни всех этих гостей. И никакого Клуба тоже нет и быть не может! Но ведь я не сплю? Ведь нет же? Или сплю?
– Я вам все расскажу, – обещает Григорий Ипатович. – Под усадьбой устроена подвальная зала. Довольно просторная, стоит сказать. Там и происходят собрания Клуба. Клуб собирается не часто, скажем, раз в месяц и, разумеется, не всегда в нашей усадьбе… Так вот, один из гостей по договоренности привозит даму. Эта дама осведомлена о том, что ее ожидает. И она добровольно, по собственному желанию играет роль боярыни Морозовой.
– Боярыни Морозовой?
– Я не знаю, откуда это пошло, – пожимает плечами Григорий Ипатович. – Это что-то вроде королевы бала. Возможно чья-то не удачная шутка, которая прижилась.
– И что же ждет эту даму? – спрашивает Лиза.
– Как и боярыню Морозову ее ожидают мучения и позор, – отвечает Григорий Ипатович, глядя с усмешкой на барышню.
Лиза бледнеет и отводит глаза в сторону.
– Есть только одно условие, – продолжает Григорий Ипатович. – Боярыня Морозова не должна быть девицею. Но, зная нравы нынешней молодежи, я полагаю… Или, может статься, я ошибся? Лиза, ведь ты не девица?
Этот откровенный вопрос заставляет Лизу покраснеть до корней волос. Она избавилась от девственности пару лет назад и вовсе не по любви, а потому что была революционеркой и боролась с буржуазной моралью и предрассудками.
– Не девица, Григорий Ипатович, – отвечает Лиза холодно. – Но к чему эти расспросы? Неужели вы полагаете, что я стану участвовать… И ради чего? Ради вашего карточного долга?
Григорий Ипатович задумчиво глядит на нее. Потом усмехается в свою стриженую бородку и отводит взгляд в сторону.
– Признаться, я и не ждал другого ответа, – говорит медленно Григорий Ипатович. – Лиза, то, что я тебе рассказал, это… Это все так дурно, так гадко и совершенно неприлично. Мне и вовсе не следовало начинать этот разговор. Барышню, которая решиться стать боярыней Морозовой, ожидают весьма болезненная порка и публичное унижение. Нет, приличной барышне о таком и подумать немыслимо! А чтобы сказала ваша матушка, я даже вообразить не берусь!
Лизоньке становится душно, как бывает перед грозой. Привалившись к нагретому солнцем стволу старой яблоньки, барышня обмахивается рукой, будто веером.
Лизе кажется, что она пошла сквозь зеркало и очутилась в очень странном месте.
На первый взгляд в зазеркалье все в точности так же, как в её прежней жизни, но если приглядеться внимательнее, замечаешь – все здесь перевернуто вверх тормашками.
– Каждый член Клуба согласно очередности привозит на собрание боярыню Морозову, – рассказывает Григорий Ипатович, а сам не торопясь набивает трубку табачком из кисета. – А ежели не получается найти любительницу подобного рода развлечений, прибегают к услугам куртизанки. Правилами Клуба это не запрещено, но считается дурным тоном.
– Вот как…
– В этот раз черед выпал Максу. Но в последние годы у него не ладится с женщинами. И, вероятно, не достает денег… Лизонька, я полагаю всему виной был тот случай, когда я наказал тебя розгами. Ты вскружили Максимилиану голову, он будто помешался. Теперь я думаю, он сел играть со мною в карты только ради одной этой цели.
– Так вот, что стояло на кону?
– Именно, – говорит Григорий, глядя на Лизу сквозь клубы табачного дыма.
– И вы дали слово? И если вы его не сдержите, вы лишитесь чести? – говорит, раздумывая о чем-то Лизонька.
– Все так, Лиза, все так, – кивает кузен.
Сощурив глаза, он глядит на высокое летнее небо в разрыве ветвей.
Как же идет ему эта обнова, думает Лиза про короткую куртку из мягкой серой ткани. Что до постриженной на английский манер бородки, Лизонька еще не решила, нравиться ей это или не нет.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Войдя из сумрачного коридора в гостиную, Арсений останавливается на пороге и щурит глаза. Двустворчатые со стеклами двери на балкон отворены, тяжелые гардины раздвинуты в стороны и стянуты посредине шнурами, и в гостиную со двора льется полуденный белый свет. Он видит незнакомую даму средних лет в распашном лиловом капоте с кружевами и розочками. Вышеозначенная дама сидит на старом, обитом полосатой тканью, диване подле столика, пьет кофе и доброжелательно, с улыбкой глядит на Арсения поверх чашки.
– Я рада видеть вас в добром здравии, Арсений Захарович, – говорит дама, и ставит чашку на столик. – Признаться, мы все боялись, что малярия вас погубит… Когда я приехала в усадьбу, у вас был сильный жар. Вы бредили и никого не узнавали. Хорошо хоть, здешний доктор прописал вам хинин…
Дама эта говорит по-русски как будто правильно и даже свободно, но все же, в ее речи слышится какая-то излишняя твердость и отрывистость не свойственная русскому языку.
– Ну, что же это я, – она, спохватившись, смеется и поднимается с дивана. – Мы не знакомы, и к моей досаде нас некому представить… Я ваша тетушка Анна, та самая пропащая, младшая сестра Гликерии Павловны.
На первый взгляд Анна Павловна удивительно хороша собой. У нее обворожительные серые глаза. Её русые, пшеничного оттенка волосы, еще не уложены в прическу, они вьются кольцами и горят в солнечном свете.
Подойдя к дивану, Арсений целует ручку Анны Павловны. Руки у тетушки маленькие, холеные с крепкими пальчиками, а ростом она немного выше Арсения. Под легким капотом угадывается её пышная грудь и широкие бедра.
– Сердечно рад нашему знакомству, – раскланивается Арсений. – Да-с. Это такая неожиданность, право…
– Надо полагать, Гликерия рассказывала обо мне? – спрашивает тетушка, пытливо заглядывая ему в глаза.
– Разумеется, и не раз. Тетушка говорила, что вы потерялись в Берлине, кажется, на вокзале. Вас все пытались отыскать и искали не один год, но все без толку.
Арсений усаживается на стул. Его взгляд скользит по полным икрам тетушки, выглядывающим из-под обшитого кружевами капота. У Анны Павловны тонкие щиколотки и изящные, с высоким подъемом ступни. На ногах у тетушки туфельки без задников в турецком стиле.
– Выпьете кофе? – спрашивает Анна Павловна. – Вы, верно, голодны? Вот, Матрена напекла пирожков, так вы угощайтесь!
– Благодарствую, – говорит Арсений, глядя на блюдо с румяными пирожками.
Возле блюда на столике лежит какая-то газета, набранная немецким шрифтом, журналы и несколько книжек. Одну из книжек – порядком потрепанный медицинский справочник, Арсений прежде видал у тетушки в книжном шкафу. Другую книгу с заглавием – «Исконные русские пословицы и поговорки», Анна Павловна не иначе как привезла с собой.
На краю столешницы стоит пепельница с папиросными гильзами и рядом лежит серебряный портсигар с черненой гравировкой – Deutschland uber alles.
– Признаюсь, люблю поваляться в постели, – говорит тетушка. – Так что, если меня не ждут неотложные дела, я завтракаю не раньше полудня.
Немного помедлив, Арсений берет с блюда теплый пирожок.
Полуденный свет за окнами, странная тишина, стоящая в усадьбе, и незнакомая женщина в капоте с кружевами – все это кажется Арсению наваждением, будто он еще спит и никак не может очнуться ото сна.
– Эльсбет сейчас занята, так что я сама за вами поухаживаю, – говорит Анна Павловна, не переставая улыбаться племяннику.
Проглотив пирожок, Арсений чувствует, что жутко голоден и тянется за другим.
Тетушка достает из портсигара папироску, сминает гильзу и, щелкнув зажигалкой, прикуривает.
– Я со своей стороны тоже пыталась отыскать в России родных, но, увы, безуспешно. Если бы ни этот трагический случай, я бы не увидела вновь наше родовое гнездо.
Затянувшись папироской, она обводит взглядом стены гостиной, оклеенные выцветшими обоями, висящие на крючках темные портреты в овальных и прямоугольных рамах, застекленные полки серванта с горкой посуды и пыльными бокалами, корешки старых книг и журналов в книжном шкафу…
– Знаете, Арсений Захарович, мне частенько снилась эта усадьба. Но во сне усадьба все время менялась, перестраивалась, и, в конце концов, сделалась вовсе не похожей на оригинал. Но когда я вошла в этот старый дом, я стала, как будто, его вспоминать…
– Верно, я плохо соображаю после болезни. О каком трагическом случае вы говорите? – спрашивает Арсений.
– Разумеется, я говорю о гибели моей старшей сестры Гликерии, – отвечает Анна Павловна и, взяв со столика, газету протягивает ее Арсению.
Арсений хочет возразить, что не знает немецкого языка, но в этом и нет нужды. Газета сложена таким образом, что Арсений сразу видит два не слишком хорошего качества фотоснимка и размещенную ниже статью. На первой снимке запечатлена, стоящая подле моста пролетка, из которой выпряжена лошадь. Над остовом пролетки курится дымок, верх у нее начисто сгорел. Подле стоят несколько полицейских и толпятся люди разных сословий, а вокруг угадывается какой-то уездный городок. На другом фотоснимке Арсений узнает свою тетушку Гликерию Павловну, за ее спиной видна Нарзанная галерея Кисловодска с башенками, декоративными зубцами и арками.
– Новость о том, как среди бела дня пожилую даму убило молнией в коляске, оказалось настолько трагической и ужасной, что ее перепечатали все немецкие газеты, – рассказывает Анна Павловна. – Помню, на званом ужине мы обсуждали жуткую кончину госпожи Балашовой, когда один господин из русской общины сказал, что лично знал Гликерию Павловну. А после обмолвился, что у госпожи Балашовой давным-давно пропала сестра… И потом еще это имя – Гликерия, согласитесь, оно довольно редкое. Я стала наводить справки, и все сошлось, как по писанному!